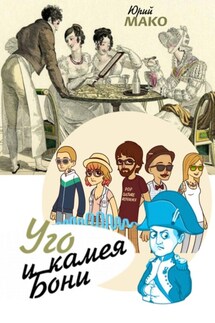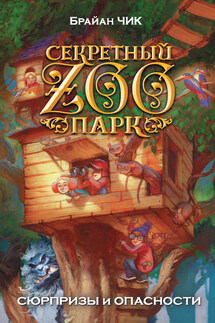Изолятор - страница 10
Я никогда не ощущал подобного, я не был революционером по натуре, обычно моё недовольство ограничивалось едким сарказмом и последующим принятием событий. Но за последний месяц я понял, как сильно ценю свою свободу. Сейчас я был готов биться за возможность самостоятельно решать, что мне делать, за возможность ошибаться и исправлять свои ошибки! Я был готов взять Сидни за руку и пробиваться плечом к плечу с Барри через неприступные стены изолятора. Но я мог лишь надеяться, что сам вскоре не буду биться головой об стены, изрыгая проклятья.
Неужели я прошёл свой путь, чтобы беспомощно сидеть, сложив руки, пока гибнут люди? Разве так нужно выживать? Как бы иронично это не звучало, но именно в изоляции я стал к обществу ближе, чем когда-либо в своей жизни, я чувствовал единство со всеми, кто заперт, со всеми, кто болен, со всеми, кто потерян. Я встал с кровати, подошёл к широкому панорамному окну и почувствовал, как моя ярость медленно угасает в стенах больничной палаты.
В моей голове вертелась только одна мысль – «Может произойти всё, что угодно, и от меня это никак не зависит». Что чувствует лабораторная мышь перед инъекцией смертельной дозы вируса? Или крыса к мозгу, которой подключен датчик, чтобы считывать её реакции на раздражители? «Они уж точно не причитают по ночам вместо того, чтобы спать, мистер Баддс» – сказал бы Фил. Не знаю, услышу ли я его теперь.
Окончательно подавленный воспоминаниями о своём старом, возможно прямо сейчас умирающем, соседе, я вернулся в постель, но ещё долго не мог заснуть. Мне мерещились спутанные, едва различимые образы, я то проваливался в сон, то, вздрагивая, приходил в себя. Я видел маленького Ника, которого родители пытались подружить с соседскими детьми, вспоминал, как оставался один во время школьных перемен. Будто сам Господь решил поиграть в режиссёра, склеил самые постыдные моменты моей жизни, а теперь транслировал мне свой «шедевр» прямиком в голову. Как ни силился, я не мог переключить канал. «Сегодня в эфире „Жизнь Николаса или хроники бездарного одиночества“». Вот я игнорирую девушек, которые, несмотря на все мои странности, проявляют ко мне симпатию, вот я напиваюсь один, чтобы попытаться понять, почему люди так увлечены алкоголем. Один миг, и я уже собираю вещи и уезжаю из родительского дома, мать провожает меня скорбным взглядом, в котором безусловная любовь борется с банальным непониманием, а отец даже не смотрит на меня, закрывая дверь. Я не звонил им, даже когда стал известным и доказал всему миру, что бросить всё и уехать было правильным решением. Мне проще было наслаждаться своей собственной жизнью, чем обернуться и увидеть, какую дыру я оставил в их сердцах. Сейчас, казалось, что она затягивает меня, лица родителей становились всё более расплывчатыми, последнее, что я видел было, как мать тянется ко мне, чтобы обнять, а я отдалялся от неё, и пытался понять, хочу я, чтобы она дотянулась или нет. Я закрыл глаза и наконец заснул.
Разбудил меня отвратительный, но, к сожалению, уже привычный сигнал подъёма. Я не хотел вставать. Я никогда не любил просыпаться и предпочитал поваляться в постели ещё пять минут, даже, когда уже опаздывал на важные встречи. Я всегда хотел растянуть эти благословенные минуты истинного счастья на весь день.
Однажды я так и сделал, у меня была запланирована встреча с Джессикой, моим литературным агентом, а я остался лежать в постели. В итоге я проспал полдня, и проснулся, только когда пара полицейских во главе с Джессикой выбили входную дверь. Уж не знаю, что она им наплела, но копы явно не ожидали увидеть меня, мирно лежащего на кровати, а уж когда я приветливо помахал им и предложил пропустить по стаканчику бурбона, они встали на месте тупо пялясь на меня. Джессика же наоборот вела себя очень уверенно, она сказала: «Спасибо, джентльмены, видимо сегодня у него не было приступа эпилепсии, простите за беспокойство, сходите, купите себе по пончику» и протянула им сто долларов.