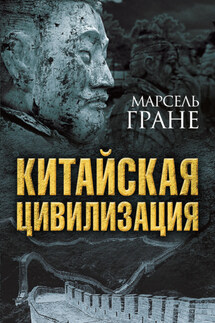К портретам русских мыслителей - страница 71
Среди свидетельств о соловьевском «смехе» можно найти и такое, где связь его с философским идеализмом выражена еще парадоксальнее. Старший знакомый Соловьева И.И. Янжул вспоминает, как тот расхохотался при рассказе о нелепой гибели рабочих, очищавших канализацию. На недоумение, что же здесь смешного, Соловьев заметил: «… здешняя жизнь на земле не составляет столь серьезного факта, за который стоило бы так держаться и дорожить <…>»289. Разумеется, в этом демонстративном хохоте заключалось больше вызова солидному собеседнику, чем равнодушия. Но, вообще говоря, платоническое пренебрежение к здешнему миру «призраков», действительно, соперничало в душе Соловьева с христианским приятием мира – падшего, но достойного спасения. Верх при этом одерживала христианская интуиция. Между безразличием мудреца-идеалиста платоновского толка и «чудачествами» надмирного Соловьева существует, по словам Е.Н. Трубецкого, «резкое, бросающееся в глаза отличие. Античный философ чувствует себя, как говорит Платон, “чуждым семенем”, случайным гостем в здешнем мире. Его идеал – полнейшее отрешение, бегство от земли. <…> Для древнего философа земля остается навеки царством греха и беззакония; напротив, в Соловьеве поражает любовь к “земле-владычице”. Цель и конец его поэтического и философского вдохновения – не отрешение от земли, а окончательное примирение с нею через преображение земного божественным»290.
«Преображение» – этим словом для Соловьева выражается главное задание по отношению к земле, природе, материи. «Кажется, ни у кого из современных Соловьеву христианских мыслителей не было в такой мере выдвинуто положение, что “мир во зле лежит”, и это, несомненно, давало его системе ее захватывающую широту и ее прочувствованную серьезность»291, – замечает Л.М. Лопатин. Но для Соловьева это не значит, что мир затронут злом по существу, ибо в прообразе он всеедин, совершенен и прекрасен, как прекрасна София Премудрость Божия, олицетворение этого прообраза, предносившееся Соловьеву в таинственных созерцаниях292. Ужасен же мир только в своем преходящем состоянии, которое рисовалось мифопоэтическому воображению философа в виде мук «мировой души», всей стенающей твари, рвущейся ввысь, навстречу Софии – своему небесному двойнику.
Один из последователей Соловьева Г.А. Рачинский пишет: «Для Соловьева вся история космической жизни была одной великой драмой борьбы и страданий мировой души, раздираемой хаосом качественно различного, раздробленного и распавшегося природного бытия, с его множеством обособленных и борющихся за свою эгоистическую обособленность, взаимно самоутверждающихся в своей исключительности начал»293. Эту мятущуюся одушевленность сущего Соловьев прозревал «под грубою корою вещества», и все, что наполняет мир, представлялось ему только внешне порабощенным и омертвленным, но живым в своем самобытии и ждущим вызволения. «Тут мы соприкасаемся с наиболее чуждою, непонятною современникам чертою умственного облика Соловьева294: он мог бы подписаться под изречением древнего Фалеса – “все полно богов”. Он видел деятельность незримых сил духовных в самых разнообразных явлениях природы – в движении волн морских, в молнии и громе. Они наполняли для него таинственною жизнью леса и горы. Мир сказочный с его водяными, русалками и лешими был ему не только понятен, но и сроден: внешняя природа была для него или иносказанием, или прозрачной оболочкой – средой, в которой господствуют деятели зрячие, сознательные. <…> В таком понимании природы заключается один из наиболее могучих источников поэтического вдохновения Соловьева. Здесь – корень того необычайного подъема душевного, который вызывается у него созерцанием ее красоты <…>»




![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)