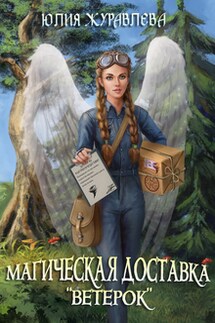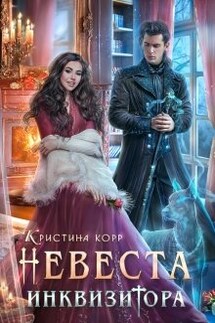Кафедра зооцелительства - страница 55
И я читаю на лице бабушки отчаянную решимость.
— Быстрее, когда она отъестся, мы ее уже не остановим.
И дед прижимает нас к себе, крепко, целует бабушку и меня. А потом вспышка магии. Сильная, резкая. Крики, уже не понять — мои, бабушки, деда или той твари, которую я создала?
А потом только темнота.
Чьи-то руки подхватывают меня и несут...
В следующий раз я открываю глаза явно не дома. Светлые стены, чужая кровать, родители, рыдающая мама, папа, молча смахивающий редкие крупные слезы.
— Мы вылечим тебя, детка, — мама вся дрожит. — Мы обязательно тебя спасем! И больше никакой темной магии! Никакой опасной магии вообще! Никогда, слышишь! Никогда!
И снова плач. И опять темнота.
И моя жизнь, застывшая где-то на грани сна и яви. Я вижу родителей. Они приходят, сидят со мной, говорят друг с другом, о чем-то спорят и постоянно ругаются. Мне так плохо, а они ругаются. Я бы хотела попросить их перестать, но голоса нет, сил нет. Я неподвижно лежу. Из обрывков фраз я поняла, что та тварь, которую я по незнанию вызвала, почти выпила мою жизнь. И если бы еще чуть-чуть — выпила бы полностью. Но бабушка с дедушкой не позволили. Я так хочу спросить, что с ними? Как они? Почему не приходят ко мне?
И когда голос через неимоверно долгое время возвращается, чужой, глухой, надломленный, первым моим вопросом было: что с ними?
— Их больше нет, — мамин ответ звучит жестко, нет — жестоко. Как нет? Почему?
— Мари, ей же нельзя переживать, — папа неодобрительно качает головой, а мама снова поджимает губы. Она так похудела за это время.
А я, если верить глазам, вообще истончилась. Руки, как веточки, пальцы, обтянутые кожей. И сил нет даже на еду. Меня кормят с ложечки, а я все время лежу и почти всегда сплю. И мне страшно. Дедушка так хотел снова ходить, и я хочу! Только как же дедушка и бабушка? Неужели их и впрямь…
— Элиза! — мама хватает меня, а я снова, как тогда, не могу ни кричать, ни плакать, ни дышать.
— Я же говорил, что ей нельзя нервничать! — это папа.
Мне так плохо, что я ничего дальше не разбираю. Только понимаю, что они снова ругаются.
— Леди! — голова дернулась, щеку обожгло, но боль реальная и близко не стояла рядом с той, что я испытываю там.
И снова темнота.
— Мы обязательно вылечим ее, — в голосе папы бесконечная усталость. — Я заложил дом в Миасском банке, мы с тобой пока можем пожить в клинике, все равно Элиза здесь.
— Это ее не спасет, — а в мамином голосе пустота и обреченность. — Даже если продадим дом, за него много не дадут, не столько, сколько нам нужно…
— Мне кое-что предложили в банке, когда узнали, что я целитель-вирусолог, тебе покажется странным и, наверное, не понравится, но это наш шанс…
А дальше я упала. Вверх. Это странно, будто подбросило, тело выгнулось дугой, воздух почти разорвал легкие.
— Драконья чума! Да очнитесь же, Элиза!
Я вцепилась в чьи-то руки, боясь, что снова провалюсь в те страшные воспоминания. Не хочу больше, не могу. Да и я знаю, что случится потом. Несложно догадаться. Им предложили работу, оплату долгов и моего лечения, и родители от безысходности приняли предложение. А потом придет человек в черном плаще, я совсем не помню его лица, только яркие четки, обмотанные вокруг запястья.
— Вы точно сможете? — мама боится и обнимает папу, ища поддержки. Папа тоже волнуется, это заметно.
— Воспоминания нельзя стереть, — странный акцент, растягивающий гласные, делает речь незнакомца напевной и завораживающей, — но можно закрыть эпизод, заблокировать кусок памяти. Главное, чтобы не осталось ничего, что могло бы о нем напомнить. Чем меньше ассоциаций — тем меньше вероятность, что память о том дне вернется. Она пока ребенок, у нее гибкая психика и живое воображение. Взрослый бы начал задаваться вопросами, а ребенок в своем сознании просто дорисует фрагмент, заполнит его, придумает недостающие части. Зато ей не придется со всем этим жить. Разве вы не считаете, что так будет лучше?