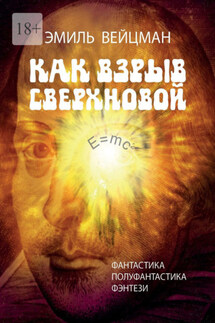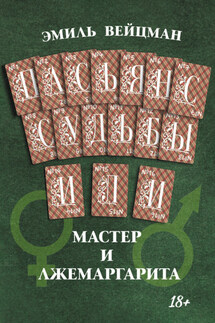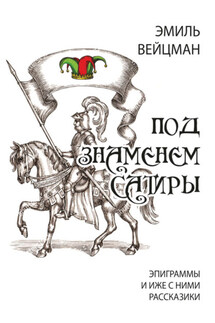Как взрыв сверхновой - страница 30
– Такому, как ты, конечно. Непробивной ты, Михаил! Удивляюсь, как кандидатскую с докторской защитил! Удивляюсь!
В последние годы своей московской жизни Алевтина всему удивлялась. Оно и понятно. Уже несколько лет она почти не покидала своей квартиры из-за сильного ослабления зрения – глаукома обоих глаз, – а потому представление о жизни в России складывались у нее преимущественно из радиопередач. Но ведь одно дело информация, полученная по радио и по телевидению, и совсем другое дело текущая, ежедневная информация, почерпнутая из самой жизни.
Между тем, Алевтина принялась дальше развивать свою мысль относительно диссертаций:
– … Хотя чему тут удивляться. Вот моя подруга, Пушкина Ирина, ну ты знаешь ее, врач…
Я, конечно, знал.
– Так кáк она свою диссертацию сделала? Переписала несколько десятков историй болезни, вот тебе и научный труд.
– Как это переписала? – сказал я, стараясь не выдать своего раздражения. – Надо ведь материал проанализировать, обобщить его, выводы сделать.
Сестра с ходу завелась:
– Да какие там выводы и обобщения! Я что не знаю, как диссертации пишутся!?
Она, разумеется, знала, поскольку сама являлась кандидатом наук… педагогических. Одна моя знакомая, кандидат филологических наук, желая подчеркнуть некую значимость своей ученой степени, говаривала: «Есть еще и педагогические с политическими в придачу!». Науки, разумеется. Тем самым давалось понять – уровень «диссертаций», представленных на соискания ученой степени кандидата филологических наук, еще не самый низкий, не самый халтурный. Так вот, Алевтина была кандидатом педагогических наук. Не знаю, может быть, в сей дисциплине и вполне достаточно описать десять трудных детей и методы воздействия на них, хотя. полагаю, и тут бы анализ, обобщение и выводы не повредили бы делу.
«Да какие там выводы и обобщения!»
Да уж…
Я сидел и слушал разглагольствования моей родственницы, готовый задать вопрос, который традиционно задавал ей перед свои уходом:
– Тебе что-нибудь надо еще сделать?
И тут вдруг последовала просьба, услышать которую я уж никак не ожидал:
– Михаил! – сказала она. – Я тут намедни передачу по радио слушала… Про клонирование. Да как-то не очень поняла. Ты биолог вроде бы («вроде бы!» Как это вам понравится?!), не объяснишь ли, что к чему.
Услышав эту просьбу, я внутренне передернулся. И было от чего. Начну рассказывать, объяснять, а Алевтина станет перебивать меня своими дополнительными вопросами, доставать своими соображениями и, что самое неприятное, своими дурацкими гипотезами. Да-да, гипотезами из области клонирования. Моя сестричка весьма педагогично считала себя компетентной во всех областях человеческих знаний, по крайней мере в тех, о которых когда-то читала или же узнала из радиопередач. Но делать было нечего. Я принялся в популярной форме объяснять Алевтине суть клонирования, постепенно увлекся несмотря на бесконечные реплики кузины и сам не заметил, как начал рассказывать о собственной работе. И тут повествование мое было прервано вопросом, которого уж я никак не ждал:
– Михаил! – перебила меня Алевтина. – А почему бы тебе не клонировать меня?!
Вопрос двоюродной сестры поверг меня в тихое изумление.
– Чего молчишь? Слышал, что я сказала?
– Слышал, – подал я голос.
Алевтина между тем принялась развивать свою мысль:
– Ты же сам сказал: нужен донор и человек, согласный выносить и родить этого самого клона. Так или не так?