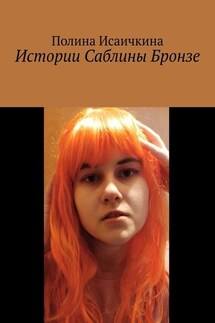Камерные гарики. Прогулки вокруг барака (сборник) - страница 16
тюрьма исправила меня.
* * *
Ломоть хлеба, глоток и затяжка,
и опять нам беда не беда;
ах, какая у власти промашка,
что табак у нас есть и еда.
* * *
Я понял это на этапах
среди отбросов, сора, шлаков:
беды и боли горький запах
везде и всюду одинаков.
* * *
Снова путь и железная музыка
многорельсовых струн перегона,
и глаза у меня – как у узника,
что глядит за решетку вагона.
* * *
И тюрьмы, и тюрьмы – одна за другой,
и в каждой – приют и прием,
и крутится-вертится шар голубой,
и тюрьмы, как язвы, на нем.
* * *
Веди меня, душевная сноровка,
гори, моя тюремная звезда,
от Бога мне дана командировка,
я видеть и понять пришел сюда.
* * *
Я взвесил пристально и строго
моей души материал:
Господь мне дал довольно много,
но часть я честно растерял,
а часть усохла в небрежении,
о чем я несколько грущу
и в добродетельном служении
остатки по ветру пущу.
Минуют сроки заточения,
свобода поезд мне подкатит,
и я скажу: «Мое почтение!» —
входя в пивную на закате.
Подкинь, Господь, стакан и вилку
и хоть пошли опять в тюрьму,
но тяжелее, чем бутылку,
отныне я не подниму.
Загорск – Волоколамск – Ржев – Калуга – Рязань – Челябинск – Красноярск
1979–1980
В лагере я стихов не писал, там я писал прозу.
Сибирский дневник
Часть первая
Судьбы моей причудливое устье
внезапно пролегло через тюрьму
в глухое, как Герасим, захолустье,
где я благополучен, как Муму.
* * *
Все это кончилось, ушло,
исчезло, кануло и сплыло,
а было так нехорошо,
что хорошо, что это было.
* * *
Живя одиноко, как мудрости зуб,
вкушаю покоя отраду:
лавровый венок я отправил на суп,
терновый – расплел на ограду.
* * *
Приемлю тяготы скитаний,
ничуть не плачась и не ноя,
но рад, что в чашу испытаний
теперь могу подлить спиртное.
* * *
Все смоет дождь. Огонь очистит.
Покроет снег. Сметут ветра.
И сотни тысяч новых истин
на месте умерших вчера
взойдут надменно.
* * *
С тех пор как я к земле приник,
я не чешу перстом в затылке,
я из дерьма сложил парник,
чтоб огурец иметь к бутылке.
* * *
Живу, напевая чуть слышно,
беспечен, как зяблик на ветке,
расшиты богато и пышно
мои рукава от жилетки.
* * *
Навряд ли кто помочь друг другу может,
мы так разобщены на самом деле,
что даже те, кто делит с нами ложе,
совсем не часто жизни с нами делят.
* * *
Я – ссыльный, пария, плебей,
изгой, затравлен и опаслив,
и не пойму я, хоть убей,
какого хера я так счастлив.
* * *
Я странствовал, гостил в тюрьме, любил,
пил воздух, как вино,
и пил вино, как воздух,
познал азарт и риск, богат недолго был
и вновь бездонно пуст. Как небо в звездах.
* * *
Я клянусь всей горечью и сладостью
бытия прекрасного и сложного,
что всегда с готовностью и радостью
отзовусь на голос невозможного.
* * *
Не соблазняясь жирным кусом,
любым распахнут заблуждениям,
в несчастья дни я жил со вкусом,
а в дни покоя – с наслаждением.
* * *
Что ни день – обнажившись по пояс,
я тружусь в огороде жестоко,
а жена, за мой дух беспокоясь,
мне читает из раннего Блока.
* * *
Я снизил бытие свое до быта,
я весь теперь в земной моей судьбе,
и прошлое настолько мной забыто,
что крылья раздражают при ходьбе.
* * *
Я, по счастью, родился таким,
и устройство мое – дефективно:
мне забавно, где страшно другим,
и смешно даже то, что противно.
* * *
Мне очень крепко повезло:
в любой тюрьме, куда ни деньте,
мое пустое ремесло
нужды не знает в инструменте.
* * *
Мне кажется, она уже близка —
расплата для застрявших здесь, как дома:
всех мучает неясности тоска,
а ясность не бывает без погрома.
* * *
Когда в душе тревога, даже стены,
Похожие книги
Этот двухтомник – уникальный шанс стать обладателем самой полной фирменной коллекции гариков. Таким шансом грех не воспользоваться!
Этот двухтомник – уникальный шанс стать обладателем самой полной фирменной коллекции гариков. Таким шансом грех не воспользоваться!
В сборник вошли стихотворения известного поэта Игоря Губермана.
В сборник вошли стихотворения известного поэта Игоря Губермана.
Предельно откровенная исповедь человека, чья юность пришлась на 70-е годы прошлого века. Это поколение «пацанов», чьи самые лучшие годы прошли на разломе между эпохами. Читатель сопроводит героя на всем его пути – от обычного мальчишки с улицы в ленинградской «спальнике» до одной из видных фигур в постперестроечной питерской журналистике. Глухая тоска времен застоя, хаос «эпохи перемен», юношеская романтика, дружба, любовь, обращение к вере… Но а
Сборник рассказов и фельетонов. Жизненные истории, литературный стендап, разговорчики на кухне. Как мы думаем – так и живем, эта книга об этом. Скрепы, традиции, привычки и «добрые советы» не помогают, а мешают принимать решения. Не подумала своей головой – теряешь любовь, здоровье, деньги, а иногда и жизнь. «Чудесное зачатие» и «Хочу на остров» – две книги на эту тему.«Чудесное зачатие», первая книга, «Хочу на остров» продолжает разговор. Автор
Героиня книги «Зеркало-псише» Марья Ивановна Ушкина проходит путь от детства до зрелости, сопровождаемая субличностью зазеркалья. Иногда с лирической светлой грустью, иногда с юмором и самоиронией героиня проживает свои ошибки. Зачёркивает летние дни сложного детства и отрочества в календарях, составляет список своих поклонников, покидает любимого, придумывает теорию жизненных циклов и щедро делится творческим анализом собственных ошибок.
"Иронию судьбы" Эльдара Рязанова, конечно же, все видели, вот и Сергей, шофер-дальнобойщик – не исключение. Однако он не пошел с друзьями в баню в преддверии Нового года, волею судьбы он отправился в рейс, и пункт его назначения – город на Неве, Санкт-Петербург. Автор обложки – Сергей Сидоренко.
Я самая обычная девочка, живущая на планете Мира 13, однако, в последнее время со мной начали происходить странные вещи, и поэтому я решила поведать вам историю моей жизни. Приготовьтесь, я не самая обычная особа…
Добро пожаловать во вторую часть нашего увлекательного путешествия по миру эффективного мышления! Если первая книга открыла для вас двери в удивительный мир когнитивных техник, то эта часть приглашает вас погрузиться еще глубже, исследуя продвинутые методики, которые способны трансформировать ваше мышление и жизнь.Каждая глава – это не просто теория, а практический путеводитель, наполненный реальными примерами и упражнениями.Вы научитесь управлят