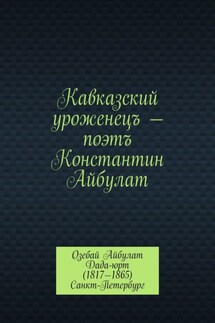Кавказский уроженецъ – поэтъ Константин Айбулат - страница 22
Возможно что Бакунин не смог прочитать,,Правда и демоны,, уже будучи генералом он был убит 1841 году в Дагестане под Хунзахом.
Айбулат не только попрекает в убийстве или непредотвращении власть придержащих и друзей Пушкина но и попрекает чуть ли не весь русский народ за то что не сберегли гения:
…Его альбомные созданья —
Народной славы достоянье:
Ихъ любитъ нашъ Славянский слухъ
Затемъ, что въ жизни православной
Исполненъ ихъ полетъ державный
Затем, что в них нашъ Русский дух!
Айбулат хотя и родился славянином, а был рожден природным чеченцем, но в какой-то мере не снимая и с себя бремя ответственности за то что не сохранили гения. Пусть даже была велика вероятность, что его минимум могли выслать из столицы, сослать в Сибирь, или даже отослать обратно на Кавказ, этого строптивого «туземца». Поэты современники и друзья Пушкина, коих после смерти Пушкина особенно прибавилось, но таких сердечных строк и резких откликов на смерть своего «друга» Пушкина, решились немногие. Ведь даже князь Вяземский казалось бы при желании мог бы предотвратить это убийство. В ночь перед дуэлью Пушкин приходил к Вяземскому, а его не оказалось дома, а Пушкин его ждал, но не дождался. Злые языки говаривали что после смерти Пушкина, Вяземский чаще обычного начал наведываться к вдове поэта, и Наталья Николаевна даже чуть ли не выставила князя со словами «старик». Имело ли место невмешательству Вяземского в избежании дуэли Пушкина с Дантесом напрямую сегодня сказать уверенно, невозможно. При дворе хорошо знали, как хорошо стреляет Дантес, которого не раз хвалил лично на парадах и смотрах кавалергардского полка сам Николай I. Сегодня мы имеем возможность прочитать, ходатайства однополчан Дантеса, Русских дворян, в пользу Дантеса.
В 1836 году в журнале «Современник» была напечатана небольшая повесть Султан Казы-Гирея«Долина Аджигутай», а также небольшой рассказ под названием «Персидский анекдот». Ничего особенно интересного ни в те времена ни сегодняшнему читателю в этих рассказах вряд ли покажется интересным, но очень интересно что писал А. С. Пушкин как издатель: «…Вот явление неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей…». В. Г. Белинский, прочитав очерки, в восторге отозвался об авторе, что он «…владеет русским языком лучше многих почетных наших литераторов»…».
В 2014 году во время моей очередной поездки в Петербург в рукописном отделе Российской Национальной Библиотеке в фонде Краевского я нашел письмо А. Х. Бенкендорфа, в котором он почти запрещает, выражая свое недовольство, о нежелательности поощрения военнослужащих к писательскому делу, издателю печатать произведение военнослужащего Казы-Гирея. Уверенно предполагаю знакомство Айбулата с Казы-Гиреем в 1839 году.
Казы-Гирей в 1840 году 4 октября переведен в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. Долгое время командовал казачьим полком в Чечне Науре, постоянно участвуя в боевых действиях против чеченцев на левом берегу Терека.
Воскресенский Михаил Ильич (1803—1867) – поэт и беллетрист, прозаик.
«Черкесъ» М. Воскресенскаго романъ в трех частях (две книги) издана в Москве 1839 году. Я начал читать и в герое романа Мануиле сразу же пришло на ум, что многое в этой книге тесно связано с Айбулатом. К. – Прочтем короткие выдержки из книги:
«…В дверях садовой терассы встретил их с нетерпением ясно обнаруживавшемся как во взорах, так и во всех движениях, небольшого роста мальчик, или лучше сказать: дитя, – так миниатюрно был он сложен, так нежен и можно сказать хрупок! Он был нечто среднее между обыкновенным мальчиком и природным карлою. Мануил, так звали ребенка, потому что несмотря на его миниатюрность ему было уже полных четырнадцать лет, – Мануил был породою Черкес. Дядя молодого князя Стальского Владимира во время службы на Кавказской линии, нашел его еще ребенком в ущелии скал бледнаго и почти безжизненнаго после одного отраженнаго Русскими набега горцев и взял к себе из сожаления. Это милое дитя Кавказа не помнило своих родителей и было усыновлено старым Князем. Никогда природа не производила ничего прекраснее этого ребенка! Он бы мог служить Праксителю моделью для изваяния амура, так все формы его тела были очаровтельны и нежны! Не столько походил он на обыкновенного дитятю, как на воздушного сильфа… Во всех чертах лица его, в малейших движениях тела была такая грациозность, которая всякого поражала с первого взгляда. Мануила нельзя было ни видеть ни слышать без того, чтобы не полюбить. Маленького роста, тонкой талии, быстрый и приятный во всех движениях, он невольно обращал на себя всеобщее внимание; несколько смуглое от природы лицо, и густые кудри черных как вороново крыло, волос… Нельзя было найти ребенка добрее и чувствительнее Мануила. Человек с самым грубым, жестким сердцем непременно привязался бы к этому милому созданию в котором было так много Поэзии… В нем заключалось вся дикая, буйная, но в тоже время и прекрасная, величественная природа Кавказа. Дитя свободного края, он обнаруживал безпрестанно свое происхождение. Не смотря на детские лета, он часто бродил один по лесам и охотиться на диких зверей; его пленяли страшные рассказы старух при бледном свете догорающего ночника. Музыка уносила его в Небо. Звук утреннего рожка и пение деревенских девушек вызывали его на его быстро из дома чтобы вмешаться в игры и пляски деревенские и беда тому, кто замечал шутя, что он ребенок и еще мал для того, чтобы принимать участие виграх, или плясать с девушкою! При таком замечании, в черных глазах МАНУИЛА зажигался дикий огонь, маленькая почти младенческая рука, по какому то врожденному чувству, искала около себя кинжала, но не находя его, принуждена была только отирать безсильные, но тем не менее жгучие слезы! В доме Князей Стальских маленький Черкес воспитывался не как раб, а почти как сын их. Он обедал с ними за одним столом, ПИСАЛ в кабинете молодого Князя, ухаживал за цветами МАРИИ, которая сама была прелестнее всякаго цветка в природе. С возрастом сердце Мануила начало биться сильнее и сильнее при каждом раз, когда видел молодую княжну…»