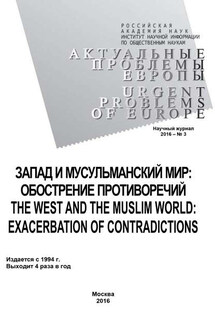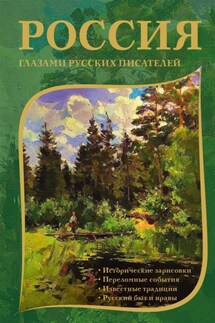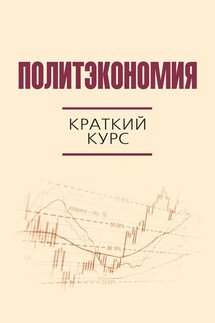Утром отпустили, бабушка вся в слезах встретила. Отец мой узнал, в бешенство пришёл. Даже не за деда, по факту. Нашёл тут же всех ментов к делу причастных, устроил разнос. И начал действия по увольнению из органов и исключения из комсомолов-партий. Он мог. Сказал об этом деду – и дед запретил. Категорически. Просто, как он умел, сказал один раз, чтоб ментов-обидчиков батя оставил в покое. «Я сам виноват». Но парадный пиджак не надевал больше ни разу, как бы бабка не заставляла. И все последующие годы бабушка просто вешала пиджак с орденами и медалями на спинку стула в День Победы…
Несколько лет спустя я спросил у деда, почему у него такое пренебрежительное отношение к боевым наградам. Столько их, гордиться ж надо!
– Чем гордиться? – спросил дед. – Тем, что я людей убивал?
– Ты же фашистов бил!!!
– Я убивал людей… Гордиться тут нечем… Тут плакать надо…
Рано или поздно история и память всегда расходятся и идут каждая своей дорогой…
Анна Акчурина
Вздох и речь
Родилась (1970) в Казани. Окончила живописное отделение КХУ им. Н. Фешина.
Художник, педагог, автор статей по искусству на русском, татарском, немецком языках. Выпустила сборник стихов «Страж» (2014) с собственными иллюстрациями. Лауреат поэтического фестиваля «Галактика любви», посвящённого памяти В. Тушновой
30 мая 1431 г.
Милая Франция…
Твои дрова вечно сыры,
а площадь тесна, как крысиный лаз.
– В самый раз.
Зато эшафот на ладони.
– Тихо, Ведьму ведут!
Посторонитесь, посторонитесь!
Нет, это не снится.
Господи, сколько рук…
Жадно ждёт,
сиротой юродивой, —
неужто не помнит
бедная родина.
– Шутка ли – десять тысяч ливров золотом.
– За эти-то кости?
– Что это – колокол?
– Эй, потаскуху ведут!
Очнись, Жанна,
вот твоё знамя.
– Сгодится на растопку,
сюда её, Ведьму.
Эй, отступи-ка подальше,
добрая Франция.
Оплачь его. Верни, как дар
Священный – талый снег.
Бежит таинственный пожар
по сводам тусклых век,
по сколам почерневших пут,
по выступам крыла…
О чём, о чём тебе поют
небесные тела?
Уж нет ни строф, ни слёз – лишь суд.
Отъят слепой покров.
Смотри… О как же дорог тут
травинки каждой зов.
Максиму Перминову
Ещё не разбирали ёлку,
ещё не пел заварник медный,
ещё в незрячую светёлку
не пробирался отблеск бледный, —
И было жаль – и это утро,
и лепет снежных асфоделей,
и чей-то абрис златокудрый,
порхающий в мерцаньях ели…
но что-то зрело уж подспудно,
волной безвестною влекомо…
И, дрогнув, оживало судно
забвенью отданного дома.
Будничный Толедо. Плоских кровель пятна.
Рыжие чернила на ступенях дня.
Мутные стекляшки, века шум невнятный…
Брошенная глина – в мире нет огня.
А когда-то, помнишь: свет и тьма Эль Греко,
Хрупкой кости стены, ждущие конца.
Чаша отторженья? Грань иного века?
…Спи, мятежный призрак, в молниях венца…
Звукоряд виолончели…
Мы у цели… близко-близко:
трепет кисти Боттичелли,
пальцы, что белей батиста,
кифарической капели
звоны цвета аметиста —
извлекают в самом деле
вздох и речь – из стрелолиста,
из поблекшей дали тёмной,
из понурых душ овечьих,
из гортани рыси вольной…
И из глины человечьей.
Под сенью грецкого ореха
примолкла парочка хмельная,
сгустилась студнем тьма немая.
День словно в пыльную прореху
стекает…
Скользит разрозненным потоком
частиц несвязных и никчёмных;
И зыбкий свет из створ оконных
плывёт по скатерти и стёклам…
Кто знает,
Зачем туман плывёт к лиману
По глиняным разбитым крышам,
Зачем так горестно мы дышим,