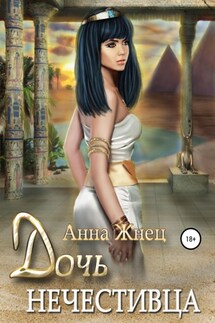Киммерийское лето - страница 41
– Воткнуть – что и куда? – спросил Игнатьев.
– Ну, вот этот рычаг на себя и вниз. Это чтобы в случае необходимости продвинуться вперед. Я бы тем временем сходил на разведку.
– Лучше не надо, – отказался Игнатьев. – Я еще продвинусь не в ту сторону. Ты сиди тут, а на разведку я схожу сам.
Он выскочил из машины, с удовольствием разминая ноги, и прошел под навес, где, озабоченно пересчитывая талоны, толпились бледнолицые частники в мятых джинсах и пропотевших на спине гавайках, похожие на летчиков-испытателей мотоциклисты со своими столь же замысловато обмундированными подружками и темно-медные от постоянного загара, выдубленные степными ветрами и прокопченные соляркой водители «ЗИЛов» и «МАЗов». Когда Игнатьев подошел, толпа начала волноваться и выражать даже нечто вроде коллективного протеста, теснясь к окошку, но оттуда послышался пронзительный женский голос, который в неповторимом тембре уроженки Северного Причерноморья стал выпаливать какие-то местные вариации на тему «вас много, а я одна»; потом окошко с треском захлопнулось и за стеклом закачался плакатик неразличимого издали содержания.
– Ну не паразитка? – сказал кто-то рядом с Игнатьевым. – Еще двадцать минут до передачи смены, так она талоны села считать, шоб ей сто чирьев повыскочило на том самом месте! А смену станут передавать – это еще полчаса с гаком. Ну до чего ж поганая баба, шо ты с ней сделаешь…
Игнатьев вернулся к фиолетовому вездеходу, возле которого трое мальчишек уже спорили – трофейная это машина или самодельная, на конкурс «ТМ-69»; Мамай невозмутимо дремал за рулем, надвинув себе на нос треуголку из «Литературной газеты». Игнатьев подошел, прочитал наполовину срезанное заломом интервью Евгения Сазонова и, посмеиваясь, щелкнул по гребню треуголки. Витенька встрепенулся.
– Что, уже? – спросил он сонным голосом, хватаясь за ключ зажигания.
Игнатьев остановил его руку:
– Не спеши, у нас впереди еще как минимум час времени.
– А что там такое?
– Там, насколько я понял, готовится какая-то пышная церемония – вроде смены караула. А королева бензоколонки приводит в порядок свою отчетность и никому, бензина не отпускает.
– На то она и королева, – философски заметил Мамай и, зевнув, добавил: – Туды ее в качель. Знаешь, Димка, больше всего мне бы хотелось воскресить дюжину-другую радетелей за женское равноправие. И погонять их, стервецов, по нашей сфере обслуживания…
– Ну, ты женоненавистник известный, – сказал Игнатьев. – Увидишь, когда-нибудь наши отрядные дамы подсыпят тебе толченого стекла в кашу. Так что, будем ждать или попытаемся доехать до Феодосии?
– Это семьдесят километров, – с сомнением сказал Витенька. Щелкнув ключом зажигания, он пригнулся к приборному щитку и постучал по нему кулаком. – Я бы не рисковал, бензина у нас практически нет. А стоять на обочине, протягивая за подаянием канистру, – как-то, знаешь, унизительно.
– Ну что ж, тогда подождем. А пока пошли пить пиво!
– Да, пивка бы сейчас не мешало. Но крымская ГАИ, понимаешь, это такие звери! Нешто рискнуть?
– Ах да, верно, тебе же нельзя! Ну, хоть кваску попьем, если найдется.
– Да нет, иди уж сам, нет хуже самоистязания из солидарности. Чеши, старик, я тут подремлю пока, сегодня чего-то не выспался…
– Так и будешь спать на солнцепеке?
– Ничего, жар костей не ломит. Идите, командор, не терзайте шоферскую душу.
Игнатьев послушно удалился. Он выпил кружку неожиданно хорошего и даже холодного пива, отстояв очередь в душном павильоне, потом купил для сравнения три пачки «Беломора» – ростовской, одесской и симферопольской фабрик. Дальше делать было нечего, он чувствовал себя легко и беззаботно и немного неприкаянно, как школьник, на которого вдруг свалились внеплановые каникулы. У него, правда, никаких каникул не было, напротив, для него сейчас начиналась работа – главная, та самая, ради которой он всю зиму высиживал бесконечные заседания в старом великокняжеском особняке на набережной Невы, проводил дни в читальных залах БАНа и Публички, мучился за пишущей машинкой. По идее, камеральный период должен был быть временем творческим, когда осмысливались и приводились в систему вороха полевого материала – сырого, необработанного, зачастую противоречивого; но Игнатьев всегда почему-то ощущал, может быть вопреки здравому смыслу, что истинное творчество начинается именно там, в поле. Возможно, он просто был не из породы теоретиков.