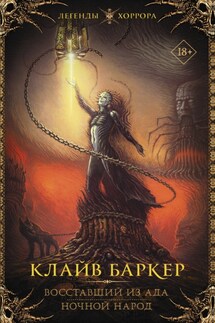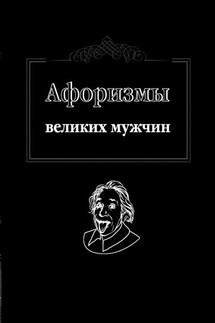Книги крови. I–III - страница 55
От касаний языка Дианы растворялись даже мысли об амбициях, когда она поднимала настоящую бурю в его нервных окончаниях. Актриса из нее была никудышная, но, боже мой, с ним она играла на ура. Безупречная техника, безукоризненное чувство ритма – то ли благодаря инстинкту, то ли благодаря репетициям она знала, когда набрать темп и довести сцену до удовлетворительной кульминации.
Когда она выдоила его досуха, он чуть не разразился аплодисментами.
Конечно, об их романе знал почти весь состав «Двенадцатой ночи» Кэллоуэя. Когда актриса и режиссер вдвоем опаздывали на репетиции или она приходила с сытым видом, а он, залившись румянцем, звучали ехидные комментарии. Он уговаривал ее прятать это выражение кошки, объевшейся сметаны, но она не умела притворяться. Довольно забавно, учитывая ее профессию.
Но, с другой стороны, Ля Дюваль, как прозвал ее Эдвард, и не нужно быть великой актрисой – она уже была знаменитостью. Ну и что, что она читает Шекспира, как «Гайавату»: дам-ди-дам-ди-дам-ди-дам? Ну и что, если ее понимание психологии – сомнительное, логика – зыбкая, а исполнение – неумелое? Ну и что, если чувство поэзии у нее такое же, как чувство приличий? Она звезда, и это было серьезно.
Вот чего у Дианы было не отнять: ее имя приносило деньги. О нем десятисантиметровым жирным шрифтом, черным по желтому, с гордостью возвещала реклама на театре «Элизиум».
«Диана Дюваль – звезда “Дитя любви”».
«Дитя любви». Возможно, худшая мыльная опера в истории этого жанра, что омрачала экраны страны, – два полноценных часа в неделю непрописанных персонажей и отупляющих диалогов, благодаря которым она неизменно приносила высокие рейтинги, а актеры, игравшие в ней, – чуть ли не за ночь – становились сверкающими звездами на хрустальном небосклоне телевидения. Там-то, ярчайшая среди ярких, и блистала Диана Дюваль.
Быть может, она не рождена играть классику, но, Господи, какую она приносила кассу. А в век опустевших театров значение имело только число зрителей в зале.
Кэллоуэй смирился с тем, что это будет не эталонная «Двенадцатая ночь», но если постановка окажется успешной – а с Дианой в роли Виолы у него были все шансы – то перед ним откроются новые двери в Вест-Энде. Кроме того, работа с вечно обожающей, вечно ненасытной мисс Д. Дюваль имела свои преимущества.
Кэллоуэй натянул саржевые штаны и посмотрел на нее сверху вниз. Она одарила его своей прелестной улыбкой – той же, что в сцене с письмом. Выражение номер пять в репертуаре Дюваль, где-то между Девственным и Материнским.
Он ответил одной из улыбок из своего арсенала – ленивой любящей миной, которая сходила за искреннюю только на расстоянии метра. Потом сверился с часами.
– Боже, мы опаздываем, милая.
Она облизнулась. Неужели ей, правда, так нравился вкус?
– Займусь прической, – сказала она, вставая и бросая взгляд в длинное зеркало рядом с душем.
– Да.
– Ты в порядке?
– Лучше не бывает, – ответил он. Легонько поцеловал ее в нос и предоставил заниматься собой.
По пути к сцене он заглянул в мужскую гримерку, чтобы привести себя в порядок и сбрызнуть горящие щеки холодной водой. После секса его всегда выдавали раскрасневшиеся лицо и грудь. Наклонившись, чтобы сполоснуться, Кэллоуэй критически изучил свое отражение в зеркале над раковиной. Тридцать шесть лет возраст на нем не сказывался, но наконец он начал выглядеть на свои годы. Больше он не герой-любовник. Под глазами – недвусмысленные припухлости, не имеющие никакого отношения к недосыпу, да и морщины – и на лбу, и у губ. Он уже не похож на вундеркинда, все секреты невоздержанности написаны на лице. Избыток секса, выпивки и амбиций, досада от стольких упущенных великолепных возможностей. Как бы он сейчас выглядел, горько думал Кэллоуэй, если бы довольствовался положением унылого ничтожества в каком-нибудь захолустном репертуарном балагане, где до сих пор почитают Брехта, а на спектакли ходит максимум с десяток любителей? Наверняка лицо было бы гладкое, как попка младенца, – как у большинства работников театров, преданных идее. Пустые и довольные, бедное стадо.