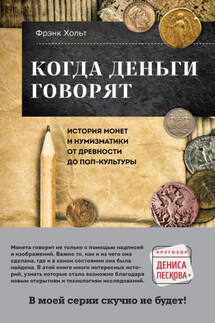Когда деньги говорят. История монет и нумизматики от древности до поп-культуры - страница 12
«Волшебные» деньги дяди Вернона, как и первые доллары Линкольна, восходят к денежной революции, начатой в Китае еще в X веке[54]. Китайцы были вынуждены таскать с собой огромное количество монет из недрагоценных металлов, которые буквально назывались «наличными» (cash)[55]. Они сняли с себя это бремя, после того как были введены императорские бумажные расписки, обладатели которых могли отныне «обналичивать» свои банкноты на установленное количество монет (рис. 1.10). Марко Поло, путешествовавший по Китаю в XIII веке, был поражен тем, что хан Хубилай[56] убедил людей покупать и продавать все, включая золото, серебро и драгоценности, используя только листы бумаги. Эта валюта так озадачила европейца, что он назвал Великого хана «алхимиком»[57]. Потребовались столетия, чтобы такой вид денег стал валютой в западных странах, поскольку европейцам требовалась уверенность в том, что они действительно смогут обменять бумажные деньги на монеты, прежде всего – на золотые или серебряные)[58]. С 1878 по 1963 год серебряные сертификаты, популярные в Америке в качестве бумажных денег, несли на себе торжественное обещание, выполненное жирным шрифтом, о том, что предъявитель может требовать настоящее серебро в обмен на банкноту (рис. 1.9, лицевая сторона: «one dollar in silver payable to the bearer on demand», т. е. «один доллар серебром, подлежащий выплате по требованию предъявителя»)[59]. Конечно, это обещание давно отменено. В стране дяди Сэма мы верим, что стодолларовая купюра имеет большую ценность, чем однодолларовая, хотя в материальном отношении они неразличимы.
Итак, деньги работают только потому, что мы верим в них. Независимо от того, полагаемся ли мы на биткоины, какао-бобы или кредитные карты, их действие является актом нашей глубокой веры. Вот почему тема денег волнует философов, антропологов, моралистов и историков не меньше, чем экономистов. Мы переводим противоречия и парадоксы денег в шутки и каламбуры – ведь мы горим желанием овладеть ими, хотя, получив их, можем осуществить что-то нестоящее, а наши религиозные лидеры и вовсе собирают и тратят огромные суммы для того, чтобы предостеречь нас от сбора и траты больших сумм. Если вы «делаете деньги» в своем бизнесе, то вас хвалят, однако если вы будете «делать деньги» в своем подвале, то вас арестуют. Мы называем деньги «капустой» (cabbage), «хлебом» (bread), «моллюсками» (clams), «беконом» (bacon), «печеньем» (biscuits), «чеддером» (cheddar), «подливой» (gravy) и «тестом» (dough), но почти ничто из этого жаргонного словаря нельзя спутать с едой[60].
Рис. 1.10. Бумажный гуань, император Чжу Юаньчжан, Китай, 1368–1399 гг. ANS 0000.999.52979. Воспроизводится с разрешения Американского нумизматического общества.
«Быть у разбитого корыта» (broke) означает «остаться без денег», но быть брокером (broker) вероятнее всего будет означать, что вы «делаете деньги». Вы можете потратить деньги в прачечной, однако вам лучше не заниматься отмыванием денег. Имея «последний доллар» ваш путь лежит в дом престарелых, тогда как собственный дом мог бы обойтись вам «всего лишь» «в копеечку». Вы можете использовать деньги, чтобы «дать кому-то на лапу» – впрочем, зачем их вообще в кого-то «вкладывать»? Дело в том, что деньги настолько укоренились в нашей культуре, что мы редко обращаем внимание на вышеперечисленные языковые парадоксы. Как заметил английский писатель Дэвид Герберт Лоуренс, «деньги – это наше безумие, это наше обширное коллективное безумие»