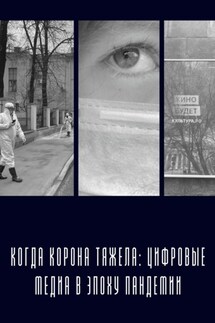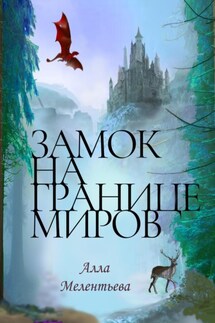Когда «корона» тяжела: цифровые медиа в эпоху пандемии - страница 10
15 марта
#карантинсмедиа Новая телереальность. Первый начал снимать программы без зрителей [1]
17 марта
#карантинсмедиа «… в Берлине даже закрылись бордели» (программа «Время»)
Комментарий к хроникам
15 марта начались прямые включения из Коммунарки, куда впервые привезли съемочные группы информационных служб федеральных каналов. В репортажах сообщали о том, что в больницу доставляют тех, кто был в «опасных» странах, о москвичах с симптомами (вирус подтвержден у 17 человек). Впервые к прессе вышли врачи Коммунарки, которые рассказали, как устроена инфекционная клиника и как работает «красная зона». В кадре пока один единственный звукооператор в маске, он держит микрофон-удочку с надписью «Россия». Все остальные – операторы, журналисты, посетители на эскалаторе, сотрудники справочной, включая главврача Дениса Проценко, – пока с открытыми лицами из мирного времени.
14—15 марта в онлайн «на удаленку» массово уходят музеи и театры по всему миру. ООН и правительства многих стран осваивают формат зума. Новая полиэкранная реальность становится частью нового визуального представления ковидной жизни. Во многих странах введены карантины, объявлены ЧП, медицинские инфраструктуры не справляются с ситуацией – все это становится основной темой информационно-политического эфира и на российском телевидении.
Начиная с первой декады марта, в новостях, дневных и вечерних ток-шоу начинают комментировать и разоблачать панические фейки, которые стремительно распространяются в социальных сетях (пересылаемая запись звонка некоей «Леночке» попала в федеральные новости и большие вечерние информационные эфиры [2]; о мошенниках, предлагающих лекарства от вируса, предупреждают в дискуссионных и криминальных программах). «Советы» якобы «молодого врача» (варианты – племянника, коллеги, «Юры из Уханя»), которые начинают распространять даже профессионалы, работающие в медиа, с опровержением в «большой эфир» не попали. К концу марта тема «китайского вируса» постепенно перекоммутируется в тему того, как Китай успешно борется с угрозой («плохим» Китай называет президент США Трамп, которого цитируют федеральные каналы).
Информационный и политический эфир января-февраля-начала марта – при всей его чехарде – фиксирует «расходящиеся» повестки, когда докоронавирусную политическую тему конституционной реформы и грядущего празднования 75-летия Победы соединить в эфире становится все труднее, но никаких ясных сигналов сплотиться в борьбе с эпидемией еще не звучит, а предупреждения и ограничительные меры выглядят как хаотичные и локальные меры местных властей и отдельных чиновников.
Этот информационный поток сталкивается с нарастанием слухов и рассказами «как на самом деле» в социальных сетях. Именно к марту, когда в эфире федерального телевидения только начинают говорить об опасности распространения фейков (народные рецепты, лекарства от вируса, количество смертей, передача вируса через предметы и пр.) и появившихся мошенниках, уровень распространения недостоверной информации и слухов в социальных сетях нарастал уже больше месяца [3]. Очевидно, что официальное телевидение стало «гасить» уровень тревожности населения и ситуацию неопределенности с явным опозданием.
При этом зазор между реальностью и ее отражением на экране довольно условен (даже инерционное освещения темы «поправок» и «обнуления» все-таки проиграло коронавирусу). Госканалы в этом информационном хаосе для одной части аудитории не стали более скомпрометированными, чем были до этого. Обычно «несмотрящая ТВ» часть аудитории и так ему не доверяла. Но и эта аудитория в стрессовой ситуации все-таки вернулась к новостям и дискуссионным эфирам – в том числе, для того, чтобы узнать «что там они еще расскажут/не расскажут». Для большей части традиционных телезрителей каналы на первом этапе (до объявления пандемии) не особенно эффективно конвертировали лояльность своей аудитории в неупрощенное понимание происходящего, «играя» на привычных «кодах» («у нас такого повального вируса не будет», проскочим как-нибудь «на авось», «мировая закулиса» виновата, «врага шапками закидаем»).