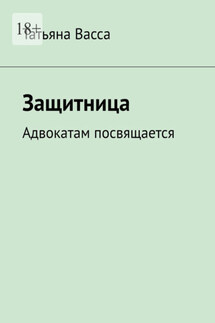Когда приходит покаяние. Всем насельницам Горицкого Воскресенского монастыря, убитым и замученным в разное время, посвящается - страница 14
Семён оглядел комнату. Она и впрямь была именно чистенькой. Окошко закрывали весёлые занавески из набивного ситчика. Обои на стенах были кремовыми с мелкими розовыми цветочками. Часть русской печи, которая приходилась на эту комнату была аккуратно побелена. Металлическая кровать с кружевным подзором и боковинками была не мала и не велика, а как раз такого размера, чтобы свободно спать одному человеку. Рядом с кроватью стоял столик, накрытый вышитой льняной скатёркой. У двери были вбиты гвозди с тремя деревянными вешалками на них. Два табурета размещались подле столика, а две цветные тканые дорожки на полу окончательно завершали уютную атмосферу этого милого гнёздышка.
– Очень хорошо! – удовлетворённо произнёс Семён, и, совсем не по чину, прямо в подряснике плюхнулся на покрывало, скрипнувшей всеми пружинами, кровати.
Запрокинув руки за голову, по-хозяйски, бывший семинарист сказал, как о давно решёном: «А завтра с жильцами на мой дом уговоримся. Да?».
– Да, да, конечно, – часто закивал Фёдор, уже прикидывая, как бы ему отпросится у хозяина на завтрашнюю половину дня, потому что нужно было к этим жильцам ехать в соседнее с городком сельцо.
– Ну, давай, брат. Устал я. Разве что только поужинаю и сразу лечь.
– Да, да. Сейчас ужинать будем. Минуту, и позову.
Фёдор бочком вышел из комнаты и уже за дверями можно было слышать его хозяйский голос: «Матушка, ужинать собирай».
Ужинали, как обычно в большой комнате за широким столом под образами. Стол был объёмист, широк, крепок. За таким столом запросто, без тесноты могли собраться десять человек, а если поужаться, то поместились бы и все пятнадцать. С одной стороны стола была широкая лавка, под которой стояли всякие короба с крупами и другими припасами. Ширина лавки была такая, что взрослый человек мог бы удобно лечь и ночевать. С другой стороны – скамья, не такая широкая, но дубовая, крепкая, длиной во весь стол. Под образами и с противоположной стороны стояло по малой скамейке на двух человек. Поскольку семья была небольшая, то накрывали только противную от образов часть стола, обозначив это пространство льняной скатертью.
Скатерть эту Серафима Матвеевна, мать Фёдора, не только сама ткала, а сама и нить пряла и лён трепала и чесала. Потом носила тканые холсты на последний снег под весеннее солнце у тихой речки когда уже кругом были прогалины. Бывало, бабы пойдут полоскать бельё, а она, тогда совсем ещё юная Сима, девка на выданье, с ними – холсты переворачивать. Обольёт их речной водой и снова сушить. И становились эти длинный куски ткани уже не серыми а белыми. И мечталось Симе, девке на выданье, что приданое у неё будет самолучшее, что сразу поймут, мастерицу взяли, а не валявку какую.
Хотелось ей за Фрола выйти, парня плечистого, да синеглазого, а сосватали за Петра, кряжистого, стеснительного увальня. Смирилась. Против воли родительской не пошла.
Не то, чтобы Петр был плох, а был он никаков. Порядки в семье заводила свекровь, женщина суровая и едкая. Под ней ещё три невестки ходило. В семье её мужа всё парни рождались. Отделились они только тогда от родителей, когда Федьке, первенцу, был уже шестой годок. Сразу после сенокоса срубили обыденно* просторный дом на краю села. Тут и пригодились Серафиме её холсты да вышиванья, подушки, да одеяла. Уж супруг у неё был обшит лучше всех. Да и у самой на каждый подобающий случай был свой наряд, чин по чину, а не абы как. Льняные холсты… Вот и скатёрка была оттуда, от той весны, от счастливого девичества, а не от несчастного замужества. Сгодились ей на беду три траурных наряда – до девятого дня, с девятого до сорокового, и с сорокового на год. Всё по чину, как положено…