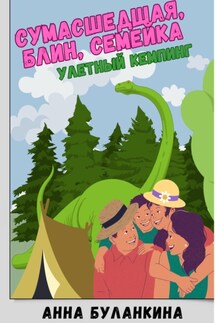Конармия. Одесские рассказы - страница 26
– Она не может не стрелять, Гедали, – говорю я старику, – потому что она – революция…
– Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он – контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы – революция. А революция – это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция – это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то Талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида[20]. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на голос: горе нам, где сладкая революция?..
Старик умолк. И мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль Млечного Пути.
– Заходит суббота, – с важностью произнес Гедали, – евреям надо в синагогу… Пане товарищ, – сказал он, вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове, – привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал… мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают…
– Его кушают с порохом, – ответил я старику, – и приправляют лучшей кровью…
И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота.
– Гедали, – говорю я, – сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного Бога в стакане чаю?..
– Нету, – отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку, – нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут…
Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился – крохотным, одиноким, мечтательным, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой.
Заходит суббота. Гедали – основатель несбыточного Интернационала – ушел в синагогу молиться.
Мой первый гусь
Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапчонкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты.
Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов – Добрыводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить…
«…Каковое уничтожение, – стал писать начдив и измазал весь лист, – возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронтах не первый месяц, не можете сомневаться…»
Начдив шесть подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье.
– Сказывай! – крикнул он и рассек воздух хлыстом.
Потом он прочитал о прикомандировании меня к штабу дивизии.