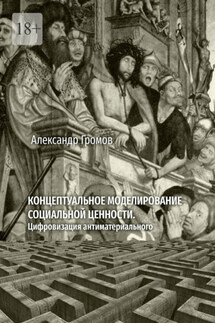Концептуальное моделирование социальной ценности. Цифровизация антиматериального - страница 43
Ценность может быть объективной, субъективной, ее «поклонники» как внешние, так и внутренние относительно потока ее создания. Основные процессы деятельности обеспечивают поток создания ценности, как объективной, так и субъективной, для внешнего потребителя, остальные процессы – вспомогательные, развития, управления – создают ценности для внутренних потребителей, процессов, подразделений, работников – это ценности в основном объективные.
Все остальное, то есть то, что не создает и не поддерживает ценности для внешнего, конечного потребителя, должно быть исключено из бизнеса. В этом, кстати говоря, и есть тот самый смысл всех методов управления, которые в разное время получали статус «большой зеленой кнопки»: нажал – и контора заработала как часы, что и являло стержневую концепцию «научной организации труда» – НОТ, разработанной в начале ХХ века русскими, советскими учеными-практиками.
Основная идея всех методов и всех гуру менеджмента – в концентрации деятельности только и исключительно на том, что имеет ценность для потребителя. И безжалостном уничтожении всего того, что такую ценность не создает. От МВО (management by objectives) Питера Друкера до модной концепции BSC (balanced scorecard) Нортона и Каплана лейтмотив исключения бесполезной с точки зрения создания ценности деятельности, то есть м’уда, повторяется с завидной регулярностью.
И каждый раз автор этой идеи преподносится очередным витком маркетинга как новый гуру менеджмента. И каждый раз человечество не в состоянии реализовать эти идеи, что и определяет повальный интерес к новым методам управления. Например, авторы «Бережливого производства» полагают, что менеджерам мешает противоречие, заложенное на ментальном уровне. Они пишут:
«…Совсем недавно один из нас решил провести небольшой эксперимент. Он попросил двух своих дочерей, шести и девяти лет, придумать оптимальный способ подготовки к отправке ежемесячной корреспонденции, которую рассылала их мама. После некоторых размышлений они радостно выдали: «Папа, первым делом надо согнуть все конверты. Затем – надписать все адреса. Потом – скрепить печатью верхнюю и нижнюю части конвертов. И только потом наклеить все марки».
Поражала глубокая убежденность детей в том, что самый лучший способ выполнения работы состоит в том, чтобы разделить ее на партии (читай старика Тейлора с его булавками). Перемещать письмо от «цеха» к «цеху» вдоль письменного стола казалось более правильным, чем переосмыслить процесс и повысить его эффективность, создав непрерывный поток. Поражает и то, что весь мир мыслит так же, как эти маленькие дети!..»
Тайити Оно считал, что в распространенности подобного мышления «партиями и очередями» следует винить первых земледельцев, которые, забыв привычку охотников (одна добыча за один поход), выработали способ выполнять работу партиями и хранить запасы (например, собирать урожай раз в год и сваливать его в зернохранилища). Хотя вполне возможно, что привычка разделять работу на партии – это нечто врожденное, как и многие другие иллюзии из разряда «здравого смысла»: например, представление о постоянстве времени (хотя на самом деле время относительно) или о том, что пространство не искривлено (хотя на самом деле оно искривлено).
Действительно, мы растем в мире отделов и функций – объединения работников по виду деятельности. Юристы работают с юристами, маркетологи с маркетологами, финансисты с финансистами, и каждая профессия выстраивает свою башню из слоновой кости (в англоязычной литературе принят термин «silos tower») – так удобнее не управлять, так удобнее соблюдать цеховые интересы. «Партию» информации удобнее поставить в «очередь» функционального подразделения и спланировать его «работу», на 90% состоящую из м’уда. Зазоры между «башнями» добавляют потерь в эффективности, времени и увеличивают операционные риски, начиная с искажения информационного потока и кончая «обрывом» процесса и коррупцией.