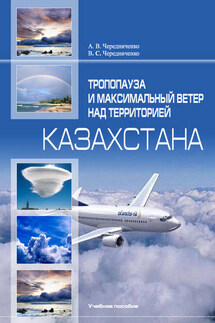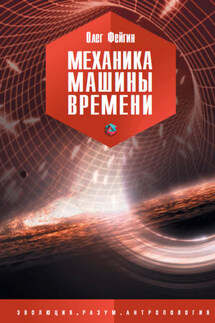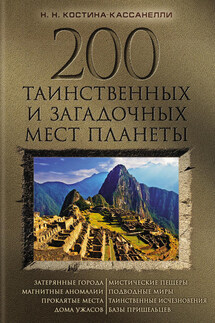Корни Японии. От тануки до кабуки - страница 7
Область плохого в синто, однако, не ограничивается загрязнениями. Существовали и недопустимые нарушения общественного порядка, которые назывались цуми.
В первую очередь следует оговорить самое важное: в Японии нет такого понятия, как «грех». Вышеназванные цуми при переводе называют «нарушениями» или «прегрешениями», хотя, разумеется, любые попытки вместить значение этого понятия в знакомое нам русское слово обречены на неизбежное искажение смысла. Но ключевая идея в том, что здесь никогда не существовало таких привычных нам запретов, как «не убий», «не укради», «не возжелай жены ближнего своего»: идея греховного совершенно не распространялась на эти действия. Когда иезуиты в XVI столетии стали знакомить с ними японцев, те были весьма удивлены, что такие запреты вообще могут существовать.
Цуми можно разделить на две категории – куни-цу цуми («земные» цуми) и ама-цу цуми («небесные» цуми): последние больше похожи на грехи в нашем понимании этого слова. Впрочем, даже беглое прочтение этих небесных цуми неизбежно приводит к осознанию того, насколько сильно наши плохие поступки отличаются от японских.
Японское молитвословие Оохараэ котоба («Слова великого очищения») приводит следующий любопытный список: «разрушенье межей, засыпка канав, желобов разрушенье, повторный посев, вбивание кольев, сдирание заживо шкур, сдирание шкур сзади к переду, нечистот оставление».
Как можно заметить, бо´льшая часть запретов связана с нарушением общественного порядка, в первую очередь применительно к земледелию: нельзя делать то, что может помешать людям вести сельскохозяйственную деятельность и собрать урожай. В этом как раз и состоит важнейшая особенность японских прегрешений – это действия, мешающие окружающим и нарушающие общественную гармонию.
Может удивить та часть запретов, что связана со сдиранием шкур, – их истоки будут объяснены ниже, когда речь пойдёт о мифологии. Однако для лучшего понимания идеи, которая лежит в основе этого запрета, следует расширить понятие «шкуры» на все другие оболочки природных объектов. Так, в древней Японии нельзя было заниматься свежеванием животных или сдирать кору с деревьев: те, кто занимался этим (пусть и в силу своей работы), становился неприкасаемым, которому запрещено было приближаться к другим людям – чтобы никого не загрязнить.
Поскольку, как мы помним, синто – религия общинная, то на первый план тут выходит обеспечение комфорта и спокойствия общества, а интересы индивида остаются вне сферы внимания. Поэтому никаких запретов на действия, которые могли бы навредить какому-то конкретному человеку, в древней Японии не существовало. Убивать и воровать тоже никто и никогда не запрещал[6].
В связи с этим вспоминается теория американского антрополога Рут Бенедикт, которая в своей знаменитой книге «Хризантема и меч» (1946 г.) ввела ныне часто цитируемое в этнопсихологии деление на «культуры вины» и «культуры стыда» (более подробно рассмотренное в предыдущей книге).
Согласно этой теории, среди европейских народов распространена «культура вины». Когда человек совершает что-то неправильное, он без внешних напоминаний и осуждений чувствует, что виноват, и осознает свою греховность. Именно на осознании вины за совершённые плохие поступки и основывается европейская система морали.
«Культура стыда», свойственная японской традиции, предполагает, что человек переживает лишь в том случае, если кто-то оказался свидетелем его прегрешения. Внутренне он не слишком беспокоится по поводу того, что совершил, но больше всего на свете боится общественного внимания и стыдится осуждения. Поэтому если о прегрешении никто не узнал, – то его как будто и вовсе не было. В Японии испокон веков идёт оглядка на общество и на окружающих, ибо только их мнение является мерилом правильного и неправильного.