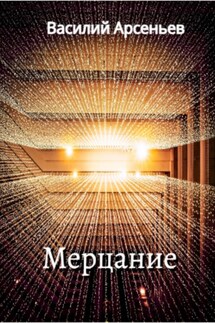Кран-Монтана - страница 5
4
Мы не любили итальянцев. Они были заносчивы, носили рубашки из египетского хлопка и всюду ходили толпой. Они были невыносимо элегантные, утонченные, как будто случайно. Казалось, они плюют на все – всклокоченные волосы, измятые брюки, – но ничто не могло поколебать их облика. Они носили плетеные браслеты из слоновой кожи, что казалось нам смешным, и тратились, не считая, как будто деньги не имели значения. «Они так вульгарны», – повторял Макс Молланже, презрительно шмыгая носом, но было очевидно, что Макс Молланже, похожий на состарившегося мальчика в своих жаккардовых свитерах и роговых очках, только и мечтает носить кожаный браслет и мятую рубашку. В «Четырехстах ударах», где миланцы были завсегдатаями, он постоянно вертел головой, следя за каждым их движением, наблюдал, как они танцуют, небрежно, нелепо, как курят без меры – они держали свои сигареты в плоских портсигарах, точно девушки, – и выглядел таким растерянным, таким возмущенным, что нам было больно на него смотреть. Мы его никогда особо не жаловали. Но нездоровая тяга этого человека к итальянцам окончательно убедила нас, что он ничтожество.
На самом деле Макс Молланже выражал, только раскованно – непристойно, невыносимо, – то, что чувствовали мы все в глубине души: жестокую зависть, накладывающуюся на дурноту от нашей слабости. В Париже, на вечеринках, в спортивных клубах, в кафе это нам завидовали, на нас смотрели, нас даже порой боялись. Мы ходили по коридорам наших дорогих школ, посмеиваясь, и выбирали себе собеседников, давно пресытившись любым выбором. Учителя, обращаясь к нам, не злоупотребляли своим положением. Прислуга, которая жила в комнатушках над нашими квартирами в триста квадратных метров, называла нас «месье». Нам прислуживали за столом. Мы знали, что обладаем определенной властью, и, даже если ночью, в постели, нам хотелось плакать – мы сами не понимали почему – или бить кулаком в стены, а ярость, смешанная с ощущением падения, жгла желудок, мы все равно были в безопасности. Но с итальянцами мы ступали на зыбкую почву. В их мире нас не существовало. Они даже не делали усилий, чтобы говорить по-французски. Они вообще не делали усилий. Жизнь скользила по их коже, как прохладная вода ручья. Когда мы узнали, что Луиджи Лоренци, высокий блондин, которого часто видели в Клубе, в дымчатых очках и с дерзкой улыбкой, как магнит притягивавшей наших сестер, выбросился из окна ноябрьским вечером, с восьмого этажа их семейного миланского дома, мы были ошеломлены. Говорили, что он принял столько наркотиков, что просто нырнул, опьяненный осенним теплом, сказав что-то о том, как прекрасна ночь. В это трудно было поверить: на Рождество итальянцы были тут как тут, такие же яркие и беззаботные, как всегда, и, если не считать отсутствия Луиджи Лоренци, не было никакого отличия от предыдущих лет. Девушки пытались что-то выведать, робко приближаясь к столику, за которым обычно сидели миланцы, но даже не могли закончить фраз, цепенея от наглых взглядов, вдруг обращенных к ним, от небрежных «Ciao ragazze»[2], тотчас превращавших их в зардевшихся статисток. Виктория Абар де Мужен, знаменитая тем, что переспала с Эдди Константином, попыталась заговорить у мужского туалета с сумрачным брюнетом из Бергамо, но тот сделал знак, что не слышит, похлопав себя по уху, и скрылся в дымной ночи. Позже она утверждала, что он поцеловал ее однажды вечером на улице у кинотеатра и потом преследовал, названивая каждый день, но в ее присутствии он казался равнодушным: не встречался с ней взглядом или же рассеянно, будто бы рефлекторно, посматривал на ее попку.