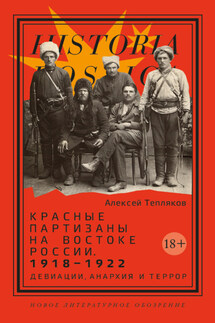Красные партизаны на востоке России 1918–1922. Девиации, анархия и террор - страница 15
Западные исследователи нечасто обращались к истории красных партизан востока России, порой характеризуя их деятельность как обычные «сельские беспорядки»156 (но и упоминая, например, бесчинства Я. И. Тряпицына, как Дж. Стефан157). Заслуживает внимания исследование Дж. Бишера, который, опираясь на обширную мемуаристику и архивы военных властей США, подробно описал деятельность забайкальской и дальневосточной атаманщины, власть которой представляла собой как хаотическое месиво клептократии и садизма, так и попытку строить новую Россию: атаман Г. М. Семёнов «понимал, что на карту поставлено спасение демократической России, а не просто примитивное возмездие»158. Одновременно Бишер дал материал и по красному террору, включая партизанский.
Один из историков недавно отметил угасание интереса к партизанской тематике в постсоветский период, заявляя, что «феномен партизанского движения в Сибири остается недостаточно изученным и плохо понятым»159. Однако, хотя новых монографий и документальных сборников на эту тему действительно появилось немного, академическое изучение деятельности зауральских партизан, включая и деструктивные аспекты, началось еще в 1990‐х годах и в последнее десятилетие идет все более активно. Выход работ С. С. Балмасова, В. П. Булдакова, Г. В. Булыгина, С. В. Волкова, В. Ф. Гришаева, С. П. Звягина, В. В. Исаева, А. Г. Елисеенко, В. Г. Кокоулина, И. С. Кузнецова, С. Л. Кузьмина, И. В. Курышева, Н. С. Ларькова, Г. Г. Лёвкина, А. В. Мармышева, П. А. Новикова, А. А. Петрушина, В. Г. Смоляка, Ю. А. Тарасова, Г. С. Туровника, И. Ю. Ускова, В. Г. Хандорина, Г. И. Хипхенова, В. В. Цыся, А. П. Шекшеева, М. В. Шиловского, В. И. Шишкина160 и автора настоящей книги, а также ряда других историков и краеведов ознаменовал новый этап исследований «неудобной темы» – сравнительно свободных и строящихся на гораздо более широкой документальной базе. Вместе с тем они в основном касаются лишь отдельных аспектов девиантного поведения красных повстанцев и не дают целостной картины партизанских насилий.
Небольшая работа И. В. Курышева161 стала одной из первых попыток исследования психологических аспектов партизанского движения в Западной Сибири весной–осенью 1919 года, а также изменений, происшедших в массовой психологии и морали. Однако опора на газетные источники, к тому же использованные выборочно (свидетельства о наиболее жестоких партизанских расправах, похоже, игнорировались как необъективные), привела к ограниченности авторских оценок, позднее перешедших и в его совместную с Л. А. Гривенной монографию, и в последующие статьи. И. В. Курышев, опираясь на сведения красных мемуаристов, объясняет отклоняющееся поведение партизан лишь местью за жестокости белой власти162 (эта точка зрения была убедительно раскритикована А. П. Шекшеевым)163. Автор пренебрегает тем фактом, что среди мотивов партизанского террора исключительно сильны были такие, как беспощадная социальная чистка, сведение личных счетов и откровенная корысть.
Огромное оживление, разрастание уголовной среды и ее инфильтрация в революционный социум отмечены давно, но исследованы мало. Профессиональный революционер и организатор убийства великого князя Михаила Александровича Г. И. Мясников, одержимый идеей «реабилитировать Смердяковых от гнусностей Достоевского», в мемуарах восторженно писал о том, как во время Гражданской войны «хулиганы, воры, бандиты перерождались… и делались одержимыми, нетерпеливыми, готовыми на все мыслимые жертвы революционерами»