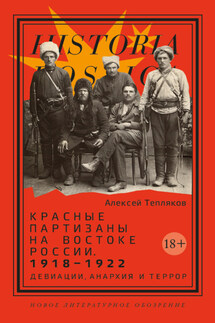Красные партизаны на востоке России 1918–1922. Девиации, анархия и террор - страница 21
Рефлексия представителей литературной власти была немедленной и оправдывала натуралистично поданные беллетристами жестокости красных революционной целесообразностью. Критик А. К. Воронский в 1922 году писал о герое повести Вс. Иванова «Цветные ветра» и его единственно верной заповеди: «Убивай!»:
У большевика Никитина, начальника партизан… [есть понимание] …что мужик поднялся, хочет бить, убивать. Это – стихия: перечить ей бесполезно и вредно, и он дает волю этой стихии: бей!.. <…> Он не считается с индивидуальной виной, он знает вину только классов. <…> …Все подчинено целесообразности, а она сейчас дает только одну заповедь: убивай! <…> В наше российское тесто – это как квашня. Без таких [Никитиных] рассыпались бы партизанские отряды, проигрывались бы восстания, сражения, невозможны бы были красный террор, раскрытие заговоров… Вздыбить трудовую Русь, …иметь силу и смелость дать простор звериному в человеке, где это необходимо (курсив мой. – А. Т.), и[,] где необходимо[,] сковать сталью и железом – все это невозможно без Никитиных210.
Затем подобные откровенные оценки стали сменяться завуалированными. В 1924 году от вождя конармейцев (вероятно, с подачи К. Е. Ворошилова, метившего в Троцкого и его литературного соратника А. К. Воронского211) печатно досталось «дегенерату от литературы Бабелю», который революционных кавалеристов «оплевывает художественной слюной классовой ненависти», заставляя читателя «поверить в старые сказки, что наша революция делалась не классом, выросшим до понимания своих классовых интересов… а кучкой бандитов, грабителей, разбойников и проституток, насильно и нахально захвативших… власть»212.
За И. Э. Бабеля тогда заступился Горький, но постепенно изображения Гражданской войны стали выглядеть все более приглаженными. Показательно, что публикация натуралистического рассказа участника Гражданской войны на Алтае В. Е. Зырянова «Партизаны – парни лютые» в журнале «Октябрь» (1925. № 3–4) сразу вызвала отповедь в прессе за изображение красных повстанцев «жуткими палачами», безжалостно «рубящими односельчан»213. Партийные идеологи критиковали и тех, кто, подобно Илье Эренбургу, осмеливался резко критически показывать чекистов: «“Ужасами“ ЧК надо давно перестать заниматься: в великом социальном движении ничего не увидать кроме Лубянки и под-лубянок, кроме каких-то специфических “злодеев“, сидящих там, это же ничем не извинительная близорукость, переполох, испуг перед революцией»214.
В итоге господство завоевала героико-романтическая позиция, выраженная, например, в поэме Н. Н. Асеева «Семен Проскаков» (1928)215. Это монтаж из ярких цитат-воспоминаний настоящего кузбасского партизана и скверных авторских стихов, где в разговорах офицеров звучит бредовая фраза: «…Под Тюменью // было именье // в семнадцать тысяч душ». Исследователи отмечают: «…исторические описания 20‐х годов о „красных“ жестокостях в гражданской войне, заведомо оправданных классовым подходом, сменились в литературе 30‐х годов „красным“ благородством, “красной“ чистотой помыслов и действий»