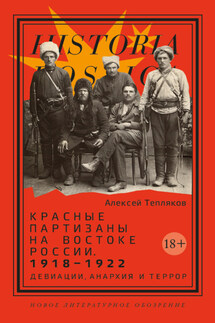Красные партизаны на востоке России 1918–1922. Девиации, анархия и террор - страница 25
Создавая настоящую книгу, автор постарался насытить ее достаточным количеством архивного материала. Важнейший из привлеченных архивных источников – партизанские мемуары, огромная часть которых до сих пор погребена в истпартовских коллекциях Госархива Новосибирской области и, хотя охватывает события Гражданской войны на территории от Казахстана до Дальнего Востока, совершенно в недостаточной степени введена в научный оборот. В силу субъективности это очень своеобразный источник, недаром еще в 1934 году один из руководящих научных работников предупреждал исследователя: «Надо залезть в архивы и к партизанам в душу. Правда, они (партизаны) много любят прибавлять того, чего не было»242. Другой участник Гражданской войны в 1929 году заявил: «В отношении хвастовства можно сказать одно, что у многих партизан это… какая-то больная струнка»243. Однако заметная часть довоенных мемуаров красногвардейцев, партизан, подпольщиков носит достаточно объективный характер, поддается перепроверке, откровенна в описании проблем, касается малоизвестных эпизодов и обладает особой ценностью.
Т. Г. Рагозин, один из видных партизан армии А. Д. Кравченко, понимая ущербность своих опубликованных в 1926 году мемуаров «Партизаны Степного Баджея»244, специально для архивного хранения написал интересные дополнения, прямо названные «Тяжелые моменты в партизанской армии». Первый абзац этой небольшой рукописи гласит: «…мне хотелось бы остановиться на более тяжелых моментах [истории] армии… а такие моменты были[,] и я о них сказал в книжке мало или умалчивал. И вот что в эти моменты у нас там было[,] мне и хотелось бы высказать[,] не замазывая истины. Поистине, это были очень горькие и печальные минуты…»245 Только в 2021 году было обнародовано драматическое признание другого предводителя енисейских партизан, А. Т. Иванова: «Как оглянешься назад, [видишь столько] ошибок, легкомыслия, мелкого самолюбия, и сердце сжимается, и перо выпадает из рук»246.
Следует отметить особую ценность лежащих в архивах – и пока недостаточно используемых историками – обширных мемуаров И. В. Громова, Р. П. Захарова, К. И. Матюха, И. Я. Огородникова и других видных партизан. Но и в менее объективных и подробных воспоминаниях попадаются ценные исторические фрагменты, относящиеся к так называемой ненамеренной информации. Полезными оказались даже очень тенденциозные мемуары – вроде воспоминаний А. Н. Геласимовой, которая была известна подделыванием свидетельств о собственном героическом прошлом (сохранился протест рядовых партизан Кузбасса по поводу того, что Геласимова называла себя, а не Шевелёва-Лубкова организатором партизанского движения, тогда как на деле до декабря 1919 года она и ее муж П. Ф. Федорец в нем не участвовали, отчего «Федорца и Геласимову массы не знали»247) и чуть ли не 20-кратным завышением численности «армии» под командованием Шевелёва-Лубкова248.
В одном из мемуарных очерков Геласимова упоенно фантазирует, как в октябре 1919 года при атаке на село Крапивино командовавший отрядом Г. Д. Шувалов-Иванов был ранен и атаку возглавила она, как пулеметчик убил ее вороного, как, упав с коня, она потеряла сознание, но сразу очнулась и побежала на белых с криками «За Советы, товарищи! Вперед!» Разумеется, ее героический порыв увлек партизан: «За мной слышался топот массы людей»249. Однако при описании эпизодов красного террора и конфликтов в повстанческой среде Геласимова вполне точна. Что касается партизанившего в Славгородском уезде С. С. Толстых, то он недрогнувшей рукой приписал себе ликвидацию целых 500 белогвардейцев при крушении воинского эшелона, осуществленном партизанами Толстых в октябре 1919 года