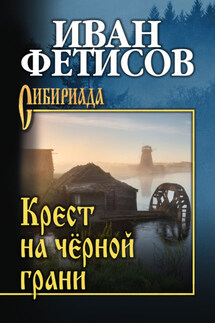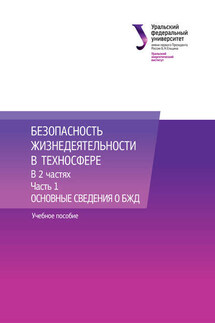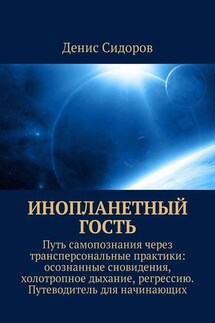Крест на чёрной грани - страница 66
Женщину вдруг что осенило – она как-то ловко обернулась лицом к опытному полю и будто озарилась нечаянной надеждой.
– Свет мой, не обессудь глупую, – выдохнула она разом и уже, наверно, не помнила, что и сказала, – отмерь малый клочок твоево хлеба на жнитво. У тя его много!
Мальчуган тоже всколыхнулся, сверкнул ожившими глазами. Ожидал он, что вот-вот свершится то, зачем он с матерью шёл много вёрст, едва осилили дорогу и, слава богу, теперь не напрасно. Дяденька, на которого он смотрел с надеждой, конечно, не откажет. Разве отказал бы он, мальчишка, дяденьке, имея такое большое хлебное поле? Найдут они серп, если своего не взяли, дасть кто-нибудь, выжнут деляну, тут же обмолотят колосья и унесут хлеб домой. Отца покормить надобно, от недоедания занемог.
Расслабился Иосиф Петрович, вроде бы растерялся: надо побыстрее ответить людям, ждут, зачем томить понапрасну, а слово нужное не приходит. Оно где-то далеко, это слово, от Иосифа Петровича, так далеко, что совсем его и не слышно. Не слышно, наверное, потому что такого слова и нет или быть не должно. Зачем оно, если людям от него плохо сейчас или станет потом. Не отчуждайся, Иосиф Петрович, ты явился на это поле сеятелем и хранителем добра. Люди поверили в твоё назначение, зря они не поверят, и потому с тобою должно быть всё, что нужно им – слово сердечной правды.
– Не могу я дать и частицу посевов. Ни вам, ни кому другому.
– Пошто? – женщина смахнула со щеки слезу.
– Это поле принадлежит всему народу. Я помогу вам в другом. Пойдёмте с нами в посёлок. В моём доме припасена пудовка ржаной муки. Мы отдадим её вам.
– А сами?
– Сами? Сами с усами… Есть в запасе картошка…
Туча, разгрузившись, ушла за поле. На небе выставилось, сияя, солнце – ждали, вот и явилось. Мы следом за Иосифом Петровичем поторопились к делянам посмотреть посевы. На лучших участках град не повредил ни одного колоска. Хозяин торжествовал:
– Данила Севастьяныч, считайте, что вы ещё раз спасли пшеницу свою! По желтеющему полю спокойно погуливали волны. Колосья качались, подталкивая друг дружку, видно, час от часа, день от дня им становилось теснее.
…Отец ушёл на третий день. Взял на бечёвку лодку и потянул её, шагая по закамененной прибрежной тропе. Мы с Иосифом Петровичем стояли на берегу и провожали его взглядом, пока не скрылся за глубоко вдавшимся в Нию скалистым мысом. Обосноваться отец собирался или в Бадаре, где жила тётя Дуся, или в каком другом селении подле него. Такой выбор считал самым удобным и подходящим – эти сёла, не то что Хлебное, были поближе к Нийску, а стало быть, и ко мне, оставшемуся у Сосновых на какое-то время жить и учиться.
В школу надо было идти спустя три дня после отъезда отца. Необычайно хлопотным представился этот день для Иосифа Петровича и Маргариты Максимовны. Они ходили по магазинам, что-то покупали, приносили домой и, глядя на меня, улыбались, храня какую-то тайну. Но вот она и открылась. Когда наступило первое сентябрьское утро, и я поднялся с постели с предчувствием важного события, весёлая, смеющаяся тётя Рита позвала меня в свою спальню.
– Сегодня в школу, Саня. Не забыл?
– Знаю.
– Поведёт тебя Иосиф Петрович… Позавтракаете и пойдёте. А сейчас давай примерим обновки.
На столе лежали разноцветные рубашки и двое брюк. Зачем столько понакупили, будто у хозяев орава ребятишек, все они пойдут сегодня в школу – и вот, пожалуйста, праздничная одежда на выбор. Или уж чересчур заботливые хозяева, или не знают, сколько и какой одежонки нужно для одного парнишки? Не знают, наверно, решил я, раз нету своих ребятишек, то откуда им знать, что и как они носят. И распорядиться обновами оказалось не так-то просто. Откуда что и взялось, выперло невиданное и неслыханное доселе упрямство. Едва уговорили меня надеть новую одежду.