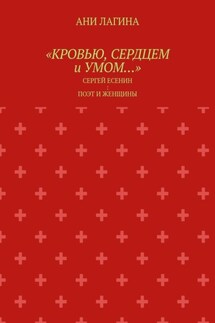«Кровью, сердцем и умом…». Сергей Есенин: поэт и женщины - страница 48
Есенин, не застав Мурашёва дома, прочитал стихотворение и в записке выразил свой восторг: «Ой, ой, какое чудное стихотворение Блока. Знаешь, оно как бы совет мне».
Коллаж. Обложки журнала «Голос жизни», членом редколлегии которого была Ольга Сно-Тутковская (1914— 1915г.)
В августе 1916 года во время посещения квартиры Мурашёва Есенин набрасывает план своего нового сборника стихов (или разделов сборника) под названием «Голубая трава»…
В 1920 году поэт оставил дарственные надписи на сборнике «Плавильня слов» (1920): «Первому из первых друзей моих города Питера Мише Мурашёву. Любящий Сергей» и на книге «Ключи Марии» (1920): «Мише с памятью о днях нашей петроградской жизни. С. Есенин».
За несколько дней до отъезда в Ленинград в декабре 1925 года Есенин пришел попрощаться с Мурашёвым. Чтобы как-то развеять мрачное настроение поэта, хозяин квартиры достал из шкафа свои старые альбомы и книги с автографами. «Я знал, – вспоминал Михаил Петрович, – Есенин любил рассматривать мои альбомы, при этом он всегда оживленно вспоминал свой приезд в Питер, Блока, наши встречи (и конечно, Ольгу Сно – А.Л.). В этот раз, перелистывая знакомые страницы, он подолгу молчал. Я, не желая ему мешать, по старой своей привычке, стал рисовать большим пером и чернилами. Сам не знаю, почему-то нарисовал я обрыв и две березки. Когда Есенин увидел этот рисунок, он взял карандаш и написал: „Это мы с тобой“. Немного помолчал после этого и попросил неожиданно проводить его». Проводить в последний путь…
Есенин ушёл, но оставил прекрасные свои произведения, оставил нам поэму «Анна Снегина», которую мы не только читаем, но и до сих пор разгадываем её загадки, в том числе и загадки её антропонимов.
Кажется, один из источников фамилии героини мы нашли. Источник поразительный и «дословный». Есть и другие объяснения и предположения: нельзя скидывать со счетов исследования о семантических источниках фамилии.
На протяжении всего произведения поэт настойчиво употребляет эпитет «белый» и включает его в разные картины. Белый цвет – символ духовной чистоты, но в то же время – цвет траура в крестьянской среде.
Образ невинной девушки в белой накидке и образ помещицы Снегиной, имеющей женскую тайну – преступную страсть, а также той Анны Снегиной, которая в эмиграции вспоминает о родине и о первой любви, не совпадают и живут как бы отдельной жизнью. Таким же сложным и противоречивым оказывается отношение героя-рассказчика, изысканного и прославленного столичного поэта, к революции и деревенским персонажам…