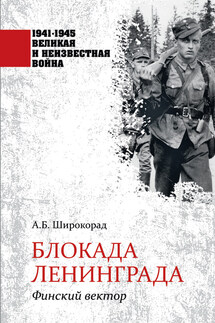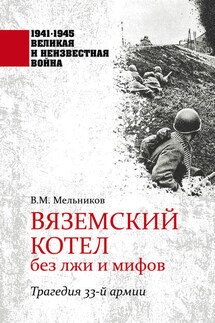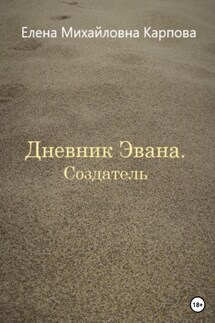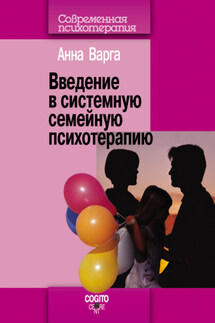Культурный фронт Великой Отечественной войны - страница 23
[62].
Только в оккупированной Литве фашисты обрабатывают сознание населения, выпуская 8 газет общим тиражом 500 тыс. экз. и 16 журналов. Общий тираж выпущенных книг составляет 3,5 млн экз.[63]
Когда в республику вступают советские войска, большая часть литовской интеллигенции открыто говорит об опасении «русификации» Литвы, так как: «население проявляет живой интерес к происходящим событиям… В Вильнюсе ежедневно в часы передач по радио сводок Советского Информбюро и последних известий на польском и русском языках около уличных динамиков собираются толпы народа. Такой же огромный интерес и к центральным газетам, вывешенным в витринах. Около киосков Союзпечати устанавливаются очереди ещё до получения газет»[64].
…Гигантской пропагандистской машине фашистской Германии в годы войны противостоят в СССР, прежде всего, Управление агитации и пропаганды при ЦК ВКП(б) под началом Георгия Фёдоровича Александрова и Главное политическое управление Красной Армии, которым с начала 1942 г. руководит секретарь ЦК ВКП(б), одновременно 1-й секретарь МГК и МК и начальник Совинформбюро Александр Сергеевич Щербаков. Эти организации курируют работу радио, редакций газет, журналов, книжных издательств. Сотни тысяч общественных агитаторов и пропагандистов, черпающих знания и силу духа из радиопередач, газетных и журнальных публикаций, работают на фронте и в трудовом тылу, т. е. занимаются пропагандой (с лат. «распространение») и агитацией (с лат. «приведение в движение»). Миллионы листовок разбрасывают наши самолёты над вражескими позициями.
Распространение ложных слухов – это измена родине. Уже в дни неожиданного для врага мощного контрнаступления под Москвой генерал Альфред Йодль (начальник штаба оперативного руководства вермахта, тот самый, который 7 мая 1945 г. подпишет Акт о капитуляции Германии перед западными союзниками в г. Реймсе) в директиве командирам войсковых подразделений вермахта «О политической пропаганде» раздражённо констатирует идеологический проигрыш: «Советский противник в области пропаганды развивает исключительную деятельность. Зима будет ещё в большей степени использована противником для разложения нашей армии. Поэтому невыполнение приказа о сдаче или уничтожении вражеских листовок может повлечь за собой тяжёлые последствия и даже смертельную опасность для армии и народа. Необходимо инструктирование личного состава на то, чтобы борьба с пропагандой противника велась также беспощадно, как и против всякого другого оружия врага»[65].
В свою очередь, враг распространеняет ложные панические слухи, легко подхватываемые населением. Потому уже 6 июля 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издаёт Указ «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения». Виновные в подобных преступлениях, предупреждает Указ, отныне приговариваются к тюремному заключению сроком от 2 до 5 лет – такова ответственность за… страх. Если же «целью распространения ложных слухов было содействие врагу», то «преступление квалифицируется как измена родине, т. е. по ст. 58 1а УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик»[66].
«Наши взяли Кёнигсберг, а Риббентроп застрелился». Но панику и слухи нельзя запретить никаким указом, их надо развеивать, понимая, что эти явления лишь следствие, а причина, их порождающая, – отсутствие информации. Поэтому роль средств массовой информации в критических ситуациях первостепенна.