Лазарь Каганович. Узник страха - страница 5
Как и в большинстве районов Полесья, в деревне Кабаны преобладали супесчаные, песчаные и слабоподзолистые земли. Были и плодородные, дающие хороший урожай, но они, как пишет Каганович, «различными комбинациями богатеев и власть имущих в волостном правлении оказались во владении богатых кулаков, которых в деревне было примерно 5–10 дворов, и зажиточных, которых было примерно 30 дворов». По свидетельству автора «записок», бедняки, не имевшие рабочего скота и инвентаря, обрабатывали землю плохо, навоза тоже не было или было очень мало, о других видах удобрения и не помышляли. «В результате, – подытоживает мемуарист, – песчаные, супесчаные земли давали беднякам ничтожный урожай, середняки, которых было около 100 дворов, тоже получали небольшой урожай. Поэтому большинство крестьян-бедняков и даже часть середняков уже к январю оставались без хлеба для прокорма своей семьи. Они и попадали в кабалу к кулаку, многие из них уходили на заработки, в особенности на лесозаготовки».
В своих мемуарах Каганович оставался правоверным большевиком и ни на шаг не отклонялся от «линии партии». Отсюда – его взгляд на досоветское и советское прошлое. Отсюда – его оценки исторических событий. Отсюда и терминология: «кулаки», «бедняки», «середняки»… Но в описании уклада жизни своей деревни, ее быта и нравов Каганович, судя по всему, не грешил против правды, только смотрел на все с позиций классовой борьбы.
«Мы жили в деревне Кабаны. Триста дворов. И еврейская колония – шестнадцать семей. Остальные украинцы, белорусы. Смешивались с белорусами. Про коня говорили не „кинь“, как украинцы, а „кунь“, вол был не „вил“, а „вул“… Брат отца приехал, дал денег: „Купи хату!“ Нас называли „мошенята“, сыновья Мошки, Моисея. Солдаты стояли в нашей деревне, городовые на конях, урядники, приставы. Я крестьянам газеты читал, читал про Маркса. Их вызвали к приставу, они говорят ему: „У нас нэма керосину, газу нэма. А мы посыдым, побалакаем. Про политику мы нэ балакаем. А у их лампа есть. Вот мы до лампы и ходим“. Их побили. Потом прислали батальон солдат, в нашей деревне разместили. Нам передают: „Пойди скажи мошенятам, чтоб не боялись, я их не выдам“. Был такой один. А соседям он говорил: „Хлопци у Мошки якись самократы (социал-демократы), якись воны… Шось будэ, а колы будэ, то воны и мэнэ будут захищать. А теперь я их захищу!“ – „Ты, Мошка, не журись!“ – говорил отцу. Отец работал на смоляном заводе возле деревни. Километрах в восьми от деревни был большой сосновый лес. Когда дед приехал в деревню, им обещали всем землю дать. А землю не дали. Песчаная земля. Он здоровый, высокий, как я. Пошел лесорубом. С двенадцати лет отдал отца на смоляно-дегтярный завод и учил. Отец всю жизнь там проработал, обгорел, больной очень был. Мать научилась кроить, шить, красить. Очень религиозная была. Богомольная книжка у нее была, где все молитвы, а читать не умела».
Каганович рассказывает, что крестьяне Кабанов были исстари «государственными» крестьянами и жили по законам, изданным еще Петром I. После отмены крепостного права появились законы и в отношении «государственных» крестьян, которым предоставили право бессрочного пользования земельными наделами за оброчную плату. Последующим законом в последней четверти XIX века «государственные» крестьяне обязаны были выкупить свои наделы, внося в течение почти 50 лет большие выкупные платежи. Поэтому многие жители Кабанов продавали свою землю и уходили куда глаза глядят, на заработки неземледельческого характера. Часть из них шла батрачить в близлежащие помещичьи имения.


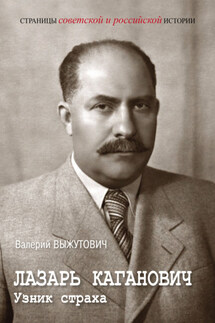

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



