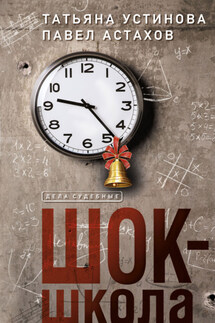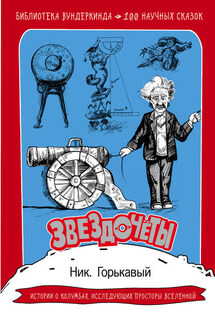Лёнька. Украденное детство - страница 3
– Ух, шельмец! Я тебе… – Она беззлобно грозила сухим костлявым кулачком. Всегда была готова потрепать и поколотить если не за проделки, то для профилактики. Однако убедившись, что парень переделал все вечерние дела по хозяйству, доверенные ему, успокаивалась и сменяла свой родительский гнев на материнскую милость. Акулина не знала, что такое нежность, ласка, поцелуи, и поэтому максимум, на что была способна, – потрепать Лёньку за непослушные вихры и почти нежно толкнуть в спину. Мальчишка тоже не понимал, что такое любовь. Отец не успел согреть его сердце и зародить в сыне ответное чувство, так как умер слишком рано. А нечто новое и особенное, не похожее на обиды за побои и наказания, появилось впервые, когда Акулина вдруг тяжело заболела. Вместе с навернувшимися слезами где-то глубоко возникало необъяснимое щекотание и дрожь, от которых хотелось разрыдаться в голос и прижаться к единственной маме. И не отпускать. Пусть лупит. Пусть дерет. Пусть! Пусть! Только бы быть с ней. Только бы не бросила. Только бы она не оставила его в жизни одного…
С девчонками Лёнька держался нарочито серьезно и холодно. Запомнил подслушанный когда-то на конюшне рассказ Петьки-боцмана, деревенского ухаря и гуляки, который был так прозван за некогда недолгую службу на речном буксире. Он любил громогласно порассуждать надтреснутым простуженным баритоном:
– С бабами завсегда надо строго! Хочешь, чтоб прикипела навсегда, – не замечай ее. Ну, делай вид, что не нужна она тебе сто лет. А коли сама заглядывается и заигрывает – гони от себя. Но не до конца. В самый отчаянный для нее момент – удиви ее! Раз, и цапни ее за плечи, сгреби в охапку и целуй…
Дальше Лёнька не расслышал, так как мужики-слушатели загоготали и шумно перебили рассказчика, да и мамка уже дважды позвала его от калитки. Так и не узнав, что же надо делать после поцелуев, он убежал домой.
Следуя нехитрой Петькиной науке, Лёнька так поступал и сейчас с прилипшей к нему востроносенькой, но симпатичной Танькой. Блаженные минуты отдыха и мечтаний он не хотел расходовать на глупые Танькины расспросы о свадьбе-женитьбе.
– Тань, я, может, путешественником стану. Поеду в Сибирь пушнину бить. Мне батя рассказывал, как там в тайге живут соболи да куницы вот такие… – Он развел широко руки, показывая размер чудесных зверюг.
– А ты своего Павлика помнишь?
Танька имела в виду отца Лёньки, охотоведа, служившего по лесной и охотничьей части, которого все в деревне очень любили за добрый нрав и небывалую щедрость. Она спросила об отце, потому что очень скучала по своему батьке Андрее Васильевиче Полевом, который служил на пограничной заставе и от него не было вестей уже больше двух месяцев. Отец же Лёньки, Павел Степанович, умерший два года назад, большей частью жил в лесу в своей сторожке-заимке, промышлял зверя и часто принимал заезжих охотников. Он никогда никому не отказывал ни в помощи, ни в ночлеге, ни в еде. За открытость души и отзывчивость, добрый нрав и щедрость все в округе – и стар и млад – звали его ласково Павликом.
Денег в семье почти не водилось, а вот кабанье сало, лосиная тушенка, мёд с собственной пасеки, соленые грибы в бочках да квашеная брусника, клюква и капуста почти не переводились. Всеми добытыми, бережно собранными дарами земли и леса Павлик охотно делился с родичами, соседями и теми, кто нуждался больше. Нередко через деревню проходили обозы с ссыльными и выселенными «враждебными элементами», которые смотрели на собиравшихся вдоль дороги «поглазеть на лишенцев» крестьян затравленно и жалобно. О таких этапах Павлика предупреждали заранее, так как он всегда был вооружен и, находясь на службе, был обязан помогать обеспечивать порядок. Охотовед и лесничий в одном лице, Павел Степанович строго выполнял поручения начальства, но обязательно подготавливал к таким дням два-три мешочка с салом, сушеной черникой, берестовым туеском засахаренного меда и травяным лесным лечебным сбором.