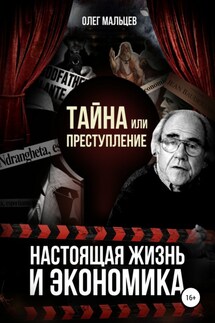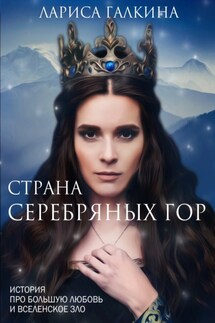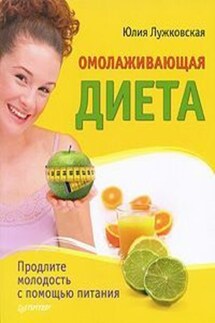Лев Троцкий и политика экономической изоляции - страница 14
Настроение коммунистов, которые составляли подавляющее большинство, было совершенно иным. Признавалось, что, «несмотря на все усилия» власти и «все её заботы» о трудящемся крестьянстве[107], в сельском хозяйстве сокращались посевные площади, снижалась урожайность, приходило в упадок животноводство. Поэтому для решения этих проблем государство должно было «вступить на путь регулирования крестьянского хозяйства»[108]. Постоянно говорилось также, что надо помочь сельскому хозяйству, но при этом нельзя допускать свободной торговли даже излишками хлеба. Н. Осинский выразил мнение большинства: «Тот, кто раскрывает дверку к свободной торговле, тот ведет к краху нашей продовольственной политики»[109]. В итоге съезд принял постановление «О мерах укрепления и развития крестьянского сельского хозяйства», в соответствии с которым повсеместно создавались посевные комитеты (посевкомы), которые должны были обеспечивать выполнение обязательных планов посевов. По сути, это было воплощением идеи Троцкого о принудительной обработке земли. По аналогии с продразверсткой, постановление вводило «семенную разверстку», предусматривавшую ссыпку семян в общественные амбары и перераспределение семян[110].
Ленин поддерживал эту совершенно утопичную идею тотального регулирования деятельности миллионов самостоятельных крестьянских хозяйств. Речи и декларации противившихся этому меньшевиков и эсеров убедили его в том, что они являлись «пособниками международного империализма»[111]. Ленин соглашался, что коммунисты могут совершать ошибки, но при этом говорил: «Пожалуйста, покажите нам эти ошибки, покажите нам другие подходы, но этих других подходов мы здесь не слыхали. Ни меньшевики, ни эсеры не говорят: “Вот нужда, вот нищета крестьян и рабочих, а вот путь, как выйти из этой нищеты”»[112]. Это, конечно, была очевидная демагогия – «декларации и речи» оппозиционеров не просто предлагали другие подходы, в них была отчетливо сформулирована будущая новая экономическая политика, до провозглашения которой коммунистами оставалось меньше трех месяцев.
Политика военного коммунизма поставила не только практические задачи управления экономикой, но и теоретические вопросы, связанные с принятием экономических решений в условиях отсутствия рынка. Рядом ученых были предприняты попытки решить проблему соизмерения экономических величин, не прибегая к стоимостному учету. Так, А. В. Чаянов пытался доказать достаточность учета на основе натуральных показателей, сопоставляемых с использованием шкал балльных оценок. Он писал, что в социалистическом обществе выгодной «считается такая затрата труда и средств производства, по сравнению с которой всякая другая затрата того же труда и тех же средств производства дает меньший выход продукта»