Лиловая кружка. Газетно-сетевой сериал - страница 11
– А почему ты не пьёшь растворимый? – спросил я однажды в середине 60-х, когда растворимый кофе считался в советском обществе таким же признаком респектабельности, как в 70-х – кримплен (произносимый повсюду однако «кремплин»). Тётка была от бога бухгалтером (при том, что все её три сестры прожили жизнь учителями) – служила, не имея высшего образования (!), главбухом «Ленмостотреста» и могла себе эту не столько роскошь, сколько дефицит позволить.
– Что б я?! Пила этот капрон?! – в своей характерной манере, с приписком, фальцетнула тётя Нина, остановившись на полпути и вперив в меня свой обворожительный насмешливый взгляд. Посмотрела так с треть минуты – и пошла себе дальше, вертя по-прежнему ручку кофейной «шарманки». Я был ошарашен. Рушились все мои представления о прекрасном и недосягаемом. Точно так же, как их остатки рухнули десятилетие спустя, когда всё так же обворожительная тётя Нина высказалась по поводу неимоверно модного «кремплина»:
– Что б я? Надела платье из того, из чего в Европе шьют чехлы на диваны?!
Кто помнит популярность и дефицит этой ткани, которую, доставая любыми правдами и неправдами, носила вся страна, причём – «на выход», поймёт степень моего потрясения.
Когда тётка завершала утренний туалет, а закипевший на газовой плите кофе доходил точно до кромки джезвы, едва заметно над нею вспучиваясь, она снимала его с огня, наливала в расписную чашку и неспешно строила фирменный бутерброд. Никаких нашинкованных на заводе буханок тогда ещё не продавалось, поэтому она сама отрезала тонкий ломтик душистого ленинградского, ни с чем не сравнимого по вкусу и аромату хлеба и клала на него равной толщины пластик остуженного сливочного масла. Чашка кофе и такой бутерброд и были её каждодневным завтраком.
Я кофе практически не пью – и не потому, что, вслед за тётей Ниной, презираю растворимый «капрон» (вовсе нет) или ленюсь обжаривать его и молоть, а потом виртуозно, как она, варить его в медной джезве, нет, просто для меня, азиата до мозга костей, кофе вовсе не мой напиток. Поэтому я налил утром первого рабочего дня себе чаю и сделал только «тёти-Нинин бутерброд»: хлеб и масло непременно одинаковой толщины. И с этим в желудке отправился на работу.
Первый день выдался нервным: мне то и дело казалось, что делаю что-то не так, хотя Манон успокаивал и заверял: всё нормально. О еде вспомнил лишь по сигналу желудка после пяти вечера, когда сменился с поста в торговом зале. Принёс из холодильника мою любимую гречечку, поставил в микроволновку и только тут вспомнил, что не спросил, что с ней делать. Мимо шмыгнули курить на крыльцо продавщицы, но оказалось, что у них наверху микроволновка другой модели и что делать с этой они тоже не знают.
Можно, конечно, попробовать методом тыка: он эффективен при соблюдении осторожности. Поэтому поставил излучение на среднее, а время – на две минуты. Каша стала чуть тёплой, но больше я рисковать не решился, такою и пообедал. А когда вечером прощались с уходившим домой Маноном, спросил у него, то оказалось, что время я ставил правильно, а вот излучение надо на самый предел.
Утром, умывшись, я так и сделал. И выбросил то, что спеклось в прогоревшем на днище контейнере – хорошо, что к приходу администратора вентиляция почти вытянула запах гари.
Совет Манона не имел у этому казусу никакого отношения. Это я шляпа! Оказывается, как прочитал, ища разгадку, в интернете, разогревать пищу надо в контейнере либо со снятой, либо хотя бы с приоткрытой крышкой, – а я наоборот закрыл её поплотнее. Контейнер я выбросил вместе с останками каши. А с новым подобного уже не случалось.

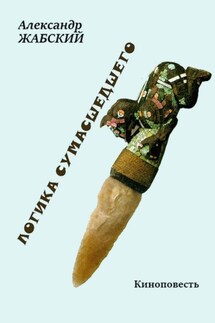

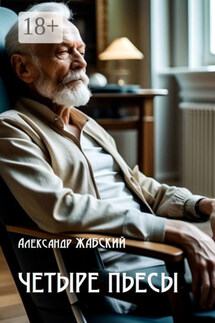

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



