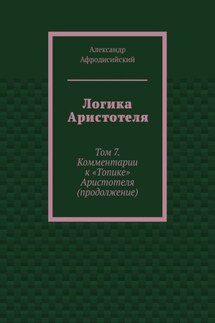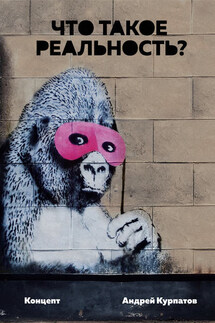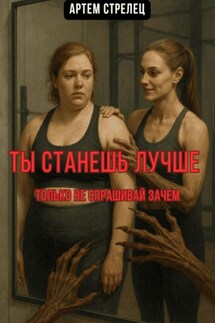Логика Аристотеля. Том 7. Комментарии к «Топике» Аристотеля (продолжение) - страница 26
Они же называют движением род страсти, определяя страсть как движение души под действием приятного или мучительного.
Если, таким образом, стремление есть стремление стремящегося, то оно будет в нём, относительно чего говорится.
Он говорит, что указанный подход общий и для привходящего. Ибо если пребывание будет приписано памяти не как род, а как привходящее, последует нелепость: ибо когда память присуща знанию, тогда по необходимости память будет в знании, что нелепо говорить (ибо всякая память всегда в душе).
p. 125b15 Снова, если он отнесет состояние к деятельности или деятельность к состоянию.
Передаваемый топос таков: кажется, что для состояний родом является состояние, а для деятельностей – деятельность. Поэтому если кто-то переставит их местами и представит родом для состояния деятельность или для деятельности – состояние, то он дает определение неверно; следовательно, данное как род будет опровергнуто. Так ошибается тот, кто называет движением род ощущения: он представил родом для состояния деятельность, ведь ощущение – это состояние, а движение – деятельность. Ведь ощущение в действии – это движение, но не просто [движение].
Опять же, тот, кто определяет память как «сохраняющее состояние», относит деятельность к роду состояния. Ведь память – это деятельность, а не состояние: память в собственном смысле возникает как деятельность при воспоминании. Так говорят те, кто определяет ее как «сохраняющее состояние представления».
Он также говорит, что ошибаются и те, кто относит состояния к родам способностей, которые их сопровождают. Есть некоторые способности, которые, как кажется, сопровождают определенные состояния и которыми можно было бы воспользоваться, если бы оказались в том [положении], для чего эти способности полезны. Однако они не входят в их сущность; поэтому они могли бы быть в них лишь по предположению.
Так, кротости, будучи состоянием, по предположению сопутствует способность сдерживать чрезмерный и неуместный гнев, если он возникнет. Ведь кротость – это отсутствие такого гнева, но можно сказать, что она обладает такой способностью, что, даже разгневавшись, [кроткий человек] сможет сдержать страсть. Таким образом, эта способность следует за кротостью по предположению: если он разгневается, то сдержит [гнев].
Если же кто-то представит родом кротости воздержанность и определит ее как «воздержанность от гнева», то он дает определение неверно. Ведь то, что следует за чем-то по предположению и таким образом, как мы указали, не может быть родом. Род неотделим [от вида], а в случае кротости воздержанность от гнева проявляется не всегда, а лишь если [человек] разгневается – тогда, когда он уже не является [кротким] в собственном смысле.
Подобным образом ошибается и тот, кто называет мужество «воздержанностью от страхов» или справедливость – «воздержанностью от прибылей». Ведь мужественный [человек] в собственном смысле – бесстрашный, подобно тому как кроткий – негневливый, и о них говорят как о не подверженных таким страстям. Воздержанный же называется так не по отсутствию страсти, а по тому, что, испытывая [страсть], не подчиняется ей. И справедливость скорее состоит в воздержании от прибылей, чем в воздержанности [по отношению к ним].
Если род находится в сущности [вещи], а то, что следует по предположению, приписывается ей как сопровождающее, то эти [свойства] не могут быть их родами.