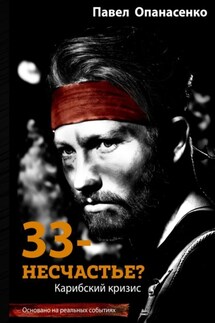Любви О. Музыкальные экспозиции - страница 7
Я захотел петь и повернулся к Милой, чтобы выговориться. И почувствовал, как по моему сердцу побежал лёгкий неприятный холодок. Милой не было рядом на жёрдочке. Её призывное пение доносилось откуда-то сверху, но я почему-то не мог разобрать ни единого слова.
На меня налетел холодный ветер и взъерошил волосы. А там вверху летали, кружились в искусном танце посетители парка. Я тоже хотел быть с ними, кружиться рядом со своей Милой, но у меня не было крыльев. Лишь жалкий отголосок воспоминания, что когда-то раньше я мог так же парить в небесных вершинах. Я отыскал взглядом Милую и крикнул ей, что что-то происходит, что я не могу подняться в воздух. Но изо рта у меня вылетели только какие-то горькие хрипы. И Милая, с ужасом поглядев на меня, закружилась, запела и скрылась за верхушками деревьев. Я помчался по аллее, выкрикивая мольбы и ругательства, а люди в клетках показывали на меня пальцами и хохотали.
И тогда я остановился и заплакал.
Ais-moll
1 января 1903
Здесь я, будучи пьян, хочу нарисовать зубы. Эти зубы, дорогой дневник, твои. Этими зубами ты разгрызаешь мою жизнь всякий раз, когда я беру тебя в руки.
Порой мне кажется, что я тебя ненавижу…
Порой мне кажется, что ты единственный в этом мире, кто способен меня спасти.
2 января 1903
Запишем. Улица приняла меня сегодня. Не возникло желания надрать задницу кучеру или выругаться в сторону этих мелких вездесущих проныр, готовых вытянуть из тебя душу за монету. Я впервые вышел на улицу с улыбкой. И внутри меня не произошло взрыва и протеста. Значит, моя теория верна.
Вот почему меня так увлекают сцены насилия и жестокости. Вот почему я впиваюсь глазами в каждую фразу и образ, где внутренности людей выворачиваются наизнанку, вопит набат и сонм дьявольских отродий нисходит на землю.
3 января 1903
Перед глазами проносятся странные просветы воспоминаний. Я сижу за роялем стэйнвэй энд санс. Меня мутит от жары и облика моей кураторши, предназначенной, видимо, для того чтобы окончательно убить во мне тягу к музыке.
– Крещендо, мистер Беатрикс! – прикрикивает старая кошатница.
Не знаю, почему она меня так называет, но мне всё равно.
Я пробегаю кончиками пальцев по растрескавшимся клавишам, ощущая, как маленькие заплесневелые молоточки, с усилием преодолевая некую невидимую границу, вонзаются в тугие нервы рояля, наполняя пространство вокруг нас гулом.
В моей голове рой мелодий, но я не могу их запомнить. Считаю минуты до конца урока. Хотя уроком это можно назвать только с очень большой натяжкой. Скорее, вивисекция над моим больным сознанием.
Старая кошатница щурится и пьёт кофе мелкими глотками. Её ноги раздвинуты, и я нахожу это зрелище чрезвычайно отталкивающим. К горлу подступает. Так дурно мне не было с пятого класса музыкальной школы, когда я впервые увидел в раздевалке Её руки (тут имеется в виду не кураторша; ты понимаешь, о ком я). Да, я вспоминаю Её и постепенно отдаляюсь. Голос старой кошатницы подёргивается дымкой.
14 февраля 1903
Я сижу, покачиваясь, возле камина. Из треклятого окна ужасно сквозит (а как иначе, Она же не может уснуть в такую жару, а тот факт, что я склонен к простуде, Ей не важен). Колючий мистер шарф терзает горло, а меня разрывает на части мучительный кашель. В груди хрипы.
Спешно записываю музыку, что всплыла у меня в голове. Вздрагиваю всякий раз, когда скрипит половица, переживая, что это Она проснулась и жаждет заполучить мою душу в свои липкие гадостные объятия.