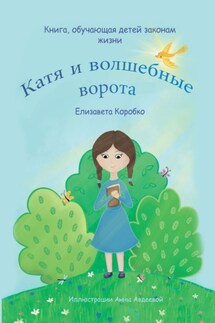Люциферов бунт Ивана Карамазова - страница 19
Трудно не удивляться, как мог в столь ранние годы совсем еще молодой человек, стоявший еще на зыбкой почве романтических только предчувствий, как мог он так счастливо угадать единственно верный для него, многообещающий, надежный ориентир. Понятно, что столь раннее обретение не снимало разом всех проблем, над которыми предстояло биться горячему сердцу и глубокому уму Достоевского годы и годы, десятилетия даже. Однако же главное направление всех еще только предстоявших поисков было найдено и хотя бы предварительно, но уже весьма принципиально определено (в эмоциональных формулах о человеке) прямо-таки на «старте». А годы ушли на обретение творческой зрелости, на всё более глубокое погружение в «тайну человека», всё более сознательное уроднение себе библейских истин и соответственно всё более торжествующее восхождение к высотам «реализма в высшем смысле», того реализма, который, повторимся, нарождался и развивался в живой практике Достоевского в режиме «перманентного» общения его с реализмом библейским, каковой, будучи раз открытым, воспринятым в первоначальных встречах со Священным Писанием, стал скоро постоянным («вечным») спутником его собственной, ищущей художественной мысли.
Оговорив не в первый раз капитальное влияние самой художественной «Методологии Библии» (а не одних только каких-то конкретных идей, оценок в ней) на творческие искания русского писателя, мы не можем вместе с тем не указать и на особый характер этой «зависимости». Она, во-первых, не была подневольной, а возникла в режиме свободного выбора, в порядке утоления своей собственной высокой жажды. Такую жажду невозможно было утолить, не припав, соответственно, к источнику высочайшему, источнику неиссякаемому и всеисцеляющему. Однако же это благодетельное, в том числе и творчески продуктивное, склонение перед Библией, никогда не было у писателя раболепием.
Нужно сказать больше: герои Достоевского (в разной степени, разумеется, но все-таки практически все и всегда) в своем предстоянии перед Богом (как и герои Библии), являются перед нами не как безгласные существа, а как полноправные участники диалога со Всевышним, ощущающие себя не иначе, как на «аршине (пусть так: на аршине, но… – В. Л.) вселенной»; и потому сознающие себя такими именно «творениями» Бога, за которыми оставлено право говорить, что называется, «на равных» и с самим Творцом (то есть в режиме свободы, доктринально неприкасаемой и для Бога). В этом пункте за героями своими стоит для нас, безусловно, и сам автор.
«Мысля» себя[69] в представленной логике людьми принципиально метафизическими (правда, лишь интуируя, как правило, эту свою природу), герои, о которых мы говорим, присутствуют и действуют в романах Достоевского как в пространствах тайны и чуда. Причем для нас важно, что они и сами так именно чувствуют и «оценивают» свое пребывание в метафизическом мире, в котором им случилось оказаться.
Всё сказанное имеет самое прямое и даже особенное отношение к роману «Братья Карамазовы», в котором «реализм в высшем смысле» восторжествовал в предельной степени. Здесь не впервые, конечно, в целом, но теперь уже с особой силой явили себя особенности выстраданной Достоевским художественной методологии, библейской в своей типологической сути.