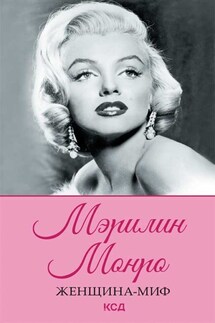Люди и куклы (сборник) - страница 26
– Но чтобы армия была на стороне революции – так не было. Это, брат, не фунт шоколада. Я до сих пор не могу поверить, что мы здесь, у вас. Мне все это кажется сном. А помнишь, Алеша, как ты на спор переплывал пруд со связанными руками и чуть не утонул? Мне влетело, а тебе ничего не было. Мама тебя баловала.
– Опять преувеличение. Я Алешу никогда не баловала. Тебя баловала, ты – младший.
Алексей Алексеевич улыбнулся:
– А помнишь, как ты произносил: свекла и клюква? Получалось: клёкла и клюкла.
– Не помню.
– А я помню.
– Что ни говорите, а нет кухни лучше французской. – Софья Сергеевна поднялась из-за стола. – Проводите меня, душечка, – попросила она Елизавету Витальевну, – а то я стоя усну.
Женщины ушли.
– Алексей, – сказал Платон, – я не хотел говорить при мама. В Петербурге, в Москве – повсюду аресты, расстрелы. Я как подумаю, что там у нас, в Кромовке, со мной что-то нехорошее делается, ей-богу… Что ты думаешь предпринять, когда вспыхнет гражданская война?
– А она вспыхнет?
– Фактически она уже началась. Я думаю, французы нас поддержат. И англичане.
– Интервенция? А чем будем расплачиваться?
– Россия велика… чем-то, конечно, придется поступиться… В одном я твердо убежден: или мы – или они. Третьего не дано.
Софья Сергеевна Кромова водила Алексея Алексеевича и невестку по комнатам небольшой квартиры. Повсюду в беспорядке громоздились вещи, лежали распакованные чемоданы.
– Здесь будет гостиная, – сказала Софья Сергеевна. И к невестке: – Пойдемте, Лиз, я вам покажу, как я думаю обставить свою спальню.
Женщины вышли, оставив Алексея Алексеевича одного. Он подошел к столу, на котором были свалены фотографии в рамках, лежал толстый, в сафьяновом переплете семейный альбом.
Кромов открыл его с конца, стал перелистывать. Вот он сам в полевой форме поручика… Вот группа молодых прапорщиков в новых офицерских мундирах… опять он в кавалергардском крылатом шлеме…
…Вот белый дом с колоннадой, высокое крыльцо, кусты жасмина… Потом фотография молодой женщины в белом платье и белой косынке, а рядом с ней мальчик в матроске…
– Доброго здоровьица, Алексей Алексеевич, – прогудел глухой старческий голос.
Старик с ворохом белья в руках остановился в дверях. Совсем седые, закрывавшие пол-лица усы топорщились в улыбке.
– Федор! – воскликнул Кромов. – Как же я рад тебя видеть, старый!
Он обнял старика, который бочком прижался к нему, не выпуская своей ноши.
– А уж я-то как рад, ваше сиятельство, – загудел Федор. – Евдокия Кузьминична моя все, бывало, любовалась на вас. Молодой, говорит, граф наш – голуба душа. Очень она вас обожала, покойница.
– Няня умерла? – У Алексея Алексеевича опустились руки. – Когда?
– Летошний год. Тихо так прибрал Господь.
– Что же мне ничего не написали?
– Где ж было писать, ваше сиятельство? Все кверху дном пошло. Ничего, скоро мы с ней свидимся, даст Бог.
– Что ты, Федор, зря Бога гневишь?
– Нет, Бога я уважаю. Он меня на трех войнах уберег. Только я – русский человек. Без ржаного хлеба долго не протяну… И какая здеся жизнь? Чужбина, известно, все чужое.
– Федор! – послышался голос Софьи Сергеевны.
Старик засеменил через комнату.
– Домой возвернетесь, так на могилку ее сходите. В церковной ограде погребли. Непременно сходите, ваше сиятельство. Очень она вас обожала.
– А если мне дома не бывать?
Но старик уже вышел из комнаты.
В этот вечер Вадим Горчаков был единственным гостем Кромовых. Кончили ужинать. Горничная убирала со стола. Подали кофе.