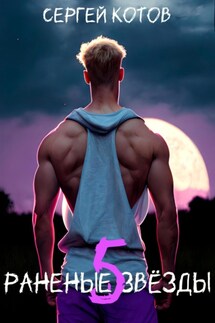Макропсихология современного российского общества - страница 9
Вместе с тем, при всем уважении к социальным практикам, в которые включены психологи, трудно не заметить, что и здесь проявляется дихотомия «больших» и «малых дел»: в наиболее важных социальных практиках, таких как выработка программ государственного развития или принятие новых законов, психологи пока не участвуют. В результате потенциальные возможности психологии и в данном плане оказываются существенно ограниченными сложившимися в нашем обществе традициями.
Яркий пример отсутствия психологии в социальной нише, в которой она должна присутствовать, – организация различных видов профессиональной деятельности. Любая подобная деятельность предполагает создание соответствующей мотивации, распределение функций между ее участниками, поощрение профессиональных успехов, санкции за просчеты и недостаточную эффективность, т. е. целый комплекс задач, имеющих очень существенную психологическую составляющую, но при этом, как правило, решаемых без участия психологов – на основе здравого смысла (или его отсутствия) и сложившихся традиций. В результате в организацию различных видов профессиональной деятельности часто закладываются психологически безграмотные решения, что существенно ее ухудшает. Характерной иллюстрацией может служить формирование мотивации с опорой на расхожие стереотипы, противоречащие психологическим закономерностям. Скажем, в быту широко распространен стереотип «чем выше мотивация, тем лучше», противоречащий хорошо известному в психологии закону оптимума мотивации, по достижении которого дальнейшее повышение мотивации снижает эффективность деятельности. В психологических исследованиях также установлено, что мотивация нарастает с ростом внешнего подкрепления не линейно, а в соответствии с U-образной кривой («эффект обратной мотивации»), что тоже, как правило, не учитывается традиционными способами организации различных видов профессиональной деятельности. Т. е. их грамотная организация требует учета целого ряда психологических закономерностей, которые пока не ассимилированы соответствующими социальными практиками.
Довольно нелепо – и с социальной, и с психологической точки зрения – сейчас выглядят и наши социальные практики, из которых в процессе реформ были изъяты важные элементы. Например, педагогическая практика, одним из краеугольных камней которой традиционно был принцип единства обучения и воспитания, имевший весьма тривиальный и отточенный историей человечества смысл: мало вкладывать в детей знания, надо еще и развивать их нравственные качества. Захлестнувшая нас либеральная волна смыла вторую часть этого тезиса, потопив ее в таких формулах, как «можно все, что не запрещено законом» (следовательно, мораль вообще не нужна), «рынок сам расставит все по своим местам» и т. п. И расставил, в результате чего у нас наблюдается криминализация всей общественной жизни; в иерархии профессий, характерной для молодого поколения, проститутка оказалась намного выше ученого; молодые люди принципиально не уступают старушкам места в общественном транспорте и т. п., в общем, происходит то, что Э. Гидденс назвал «испарением моральности» (Giddens, 1984). Все эти характерные для современной России явления имеют общую причину – отсутствие какой-либо системы воспитания и морального контроля, канувшей в лету вместе с выполнявшими эту функцию партийной, пионерской и комсомольской организациями. А надежды на то, что закона самого по себе достаточно в качестве механизма регуляции социального поведения (это при нашем-то отношении к законам!), или на то, что он будет дополнен внутриличностными самоограничениями (на которых, собственно, и основана западная цивилизация), оказались утопичными. В результате мы стоим перед разбитым корытом совершенно разрушенной системы воспитания, на обломках которой произрастают такие культивируемые нашими СМИ и органически дополняемые образами «хороших» бандитов варианты национальной идеи, как «купи и выиграй», «открой бутылку и выиграй», «укради и не попадись», а то и просто «укради»