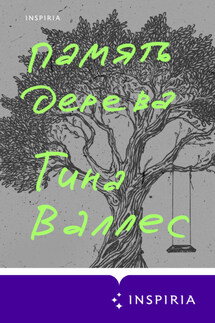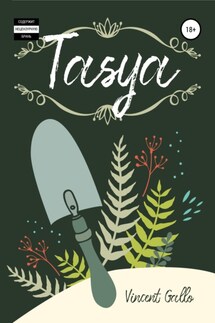Маленькая жизнь - страница 95
Я скажу тебе, какие еще две истины мне открылись. Во-первых, не важно, сколько лет ребенку, не важно, когда и как он стал твоим. Как только ты назвал кого-то своим ребенком, что-то меняется, и все, что тебе в нем раньше нравилось, все твои прежние чувства к нему теперь в первую очередь окрашиваются страхом. Это не про биологию, это нечто большее – когда страстно хочешь не столько обеспечить выживание своего генетического кода, сколько доказать свою несокрушимость перед лицом уловок и нападок вселенной, победить те силы, которые хотят уничтожить твое.
И второе: когда твой ребенок умирает, чувствуешь все, что должен чувствовать, все, о чем столько раз писало столько людей, поэтому я даже не стану ничего перечислять, а только замечу, что все написанное о скорби одинаково, и одинаково оно не случайно – от этого текста по большому счету некуда отступать. Иногда что-то чувствуешь сильнее, что-то слабее, иногда – не в том порядке, иногда дольше или не так долго. Но ощущения всегда одинаковые.
Но вот о чем никто не говорит: когда это случается с твоим ребенком, часть тебя, крошечная, но неумолимая часть испытывает облегчение. Потому что тот момент, которого ты ждал, страшился, к которому готовил себя с первого дня отцовства, наконец наступил.
Ага, говоришь ты себе. Оно случилось. Вот оно.
И после этого тебе больше нечего бояться.
Много лет назад, когда вышла моя третья книга, один журналист спросил, можно ли сразу понять, есть у студента юридическое мышление или нет, и ответ на это – иногда можно. Но ты часто ошибаешься: студент, который казался блестящим в начале семестра, становится все менее блестящим к концу года, а тот, на кого ты вообще не обращал внимания, вдруг расцветает, и ты наслаждаешься тем, как он размышляет вслух.
Нередко студенты, больше других одаренные от природы, и мучаются больше других на первом году обучения – юридическая школа, особенно первый ее курс, это, конечно, не то место, где расцветают люди, наделенные творческим подходом, абстрактным мышлением и воображением. Мне часто кажется – я об этом слышал, но не знаю из первых рук, – что так же обстоят дела в художественных училищах.
У Джулии был друг по имени Деннис; в детстве он был невероятно талантливым художником. Они с Джулией дружили с ранних лет, и она как-то показала мне кипу рисунков, сделанных им лет в десять – двенадцать: наброски птиц, которые что-то клюют на земле, автопортреты – его круглое спокойное лицо; портрет отца-ветеринара, который гладит осклабившегося терьера. Отец Денниса не видел смысла в уроках рисования, так что мальчик никакого формального образования не получал. Но когда они выросли и Джулия поступила в университет, Деннис отправился в художественное училище – учиться рисовать. В первую неделю обучения им разрешали рисовать что угодно, и преподаватель всегда выбирал именно его рисунки, чтобы приколоть их на доску, похвалить и обсудить.
Но потом их стали учить, как рисовать – в сущности, перерисовывать. В течение второй недели они рисовали только овалы. Широкие овалы, пухлые овалы, тонкие овалы. На третьей неделе рисовали круги: трехмерные, двухмерные. Потом цветок. Потом вазы. Потом руки. Потом головы. Потом туловища. И с каждой неделей профессионального обучения дела Денниса шли все хуже и хуже. К концу семестра его рисунки никогда уже не попадали на почетную доску. Взросшая в нем осторожность мешала рисовать. Теперь, увидев собаку с шерстью до самого пола, он видел не собаку, а круг на параллелепипеде и, пытаясь ее зарисовать, беспокоился о пропорциях, а не о том, чтобы передать ее собачность.