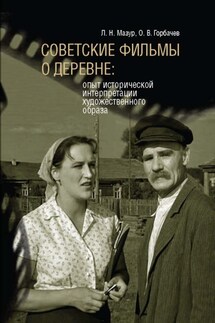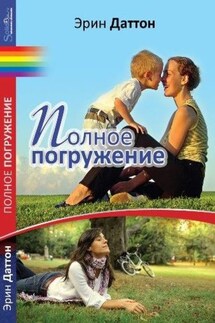Методика и архитектоника медиаисследования. Учебно-методическое пособие для студентов, аспирантов и исследователей медиа - страница 11
2) наделение [статусной] функцией,
3) учредительные правила и процедуры.
1. Как и многие живые существа, человек наделён способностью к сотрудничеству, способен разделять свои установки с соплеменниками. Кооперация приобретает различные формы: общение, коллективные игры, трудовая или досуговая деятельность и т. д. Эту человеческую способность Сёрль и называет коллективной интенциональностью (или «мы-интенциональностью»). Суть в том, что у каждого участника в совместной деятельности, присутствует исходное понятие «мы намерены». В случае успешности совместного действия становится ясным, что у каждого участника также имеется намерение в форме «мы намерены (убеждены, хотим, переживаем и т.д.)».
На основе понятия мы-интенциональности, Сёрль выводит категорию «социального факта» (любой факт, в который вовлечены два и более действующих индивида, обладающие коллективной интенциональностью, причём не важно – люди это или животные). И, далее, сугубо человеческую способность: создавать не только социальные, но институциональные факты (предполагающие, помимо физического взаимодействия, использование языка – например, чтобы жениться, избирать правительство или владеть собственностью, к чему животные не способны).
2. Как высокоорганизованное животное, человек способен к использованию вещей как орудий труда, то есть к наделению природных (нейтральных) объектов функциями: то есть использованию природных свойств объектов для несвойственного им предназначения. «Функции никогда не бывают независимыми от наблюдателя. Каузальность от наблюдателя независима; то, что функция добавляет к каузальности, это нормативность или телеология», – пишет Сёрль15. То есть, благодаря «телеологии и нормативности», естественные причины связи событий (либо физические свойства вещей) субъективно наделяются «функцией», целью – производной от коллективных потребностей (установок) людей (коллективной интенциональности). Если в животном мире связь между свойствами вещи и функцией находится в более или менее прямой зависимости, то в социальном совсем необязательно.
Более того, люди наделяют вещи «статусными» функциями, что и позволяет конструировать не просто социальную, но собственно институциональную реальность.
Сёрль приводит пример стены вокруг поселения. Её функция – защита, и эта функция вытекает из физических свойств стены: крепости камня, её высоты, качества кладки. Но вот стена со временем разрушилась и осталась лишь гряда камней, продолжающая, однако, служить границей, которую нельзя нарушать, например, для застройки. Стены нет, но её статусная функция (в частности, пограничья) продолжает служить людям. Таким образом, все институты человеческого общества создаются и существуют как результат наделения предметов и отношений статусными функциями.
3. По мнению философа, для различения любых видов фактов достаточно усвоить два вида правил:
– регулятивные – имеют формулу «Делай так-то и так-то» и управляют ранее уже существовавшими формами поведения (пример – правила дорожного движения);
– учредительные – строятся по формуле «то-то и то-то считается имеющим статус того-то и того-то» или «X считается Y в контексте C». Они не только регулируют поведение, но делают возможным существование самой формы регулируемой деятельности и образуют «субстанцию» регулирования. Только в рамках существования учредительных правил и их реализации, могут быть поняты и объяснены институциональные факты (пример – игра в шахматы: такая-то позиция считается шахом, такая-то форма шаха понимается, как шах и мат; т.е. исполнение определённых условий X позволяет присвоить себе статусную функцию Y, в контексте С: в данном случае – шахматной партии).