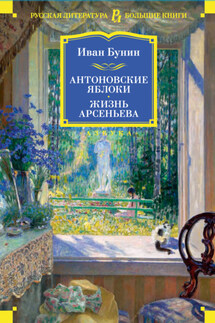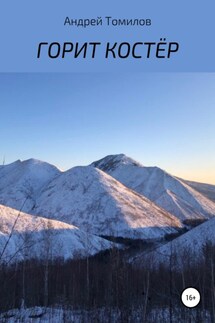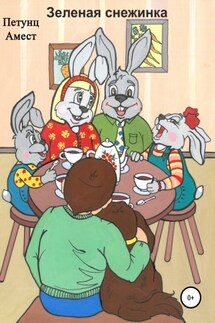Митина любовь (сборник) - страница 29
– Что ж, дошло до того, что два раза из омута вынимали… Пришла я как-то из села, а она в пруде по горло, топиться хочет… А намедни с осинки сняла: собираю сушь в лесу, глядь, а она висит на суку, еле ногами травы касается, – уж краски по лицу пошли… «Все, говорит, ходит Он ко мне, душит, настигает…» Ночью проснусь, а она задыхается, кричит: «Что ты? Что ты? Пусти, не хочу!» А самой, по голосу слышу, лестно, сладко… Спать без того не ложится, – молится, приговаривает: «Не надейся, не надейся, с собой не положу! Всю постелю закрещу!» Тает, на нет сошла, осталось нарядить да в гроб положить… Уж я с ней работы и не спрашиваю, грех и спрашивать… Куда вся храбрость девалась, а прежде чистый огонь была, нежная, обидчивая… Дело молодое, тайное, какой только думки в голове нету! Иной раз проговорится, – глаза потупит, закраснеется и шепчет: «Ну что ж, ну, горбатая, а все лицом не хуже других… Ну и пускай никто не возьмет, постыдится с такой-то под венец стать… Найду себе получше дружка, потаенного, полуночного…» Какой страшный грех говорит, а все думается – помрет, все Господь простит…
Девка сидит прямо, неподвижно, не слушает, пристально и странно глядит в темноту леса…
Домой еду полями. Земля залита темнотой, темнота поднимается снизу, затопляет далекую зарю, последний след ее. Свежо – пахнет и зеленью уже поднявшихся ржей, и росистой травой на межах, и всем тем, полевым, ночным, среди чего я родился, вырос, чем так сладко живу…
Баба говорила: «Я сплю с Анюткой, на нарах, а она на конике, под святыми… Ночью проснусь – сидит, в окошечко на звезды, на ночь, на лес смотрит… У меня, говорит, звезда любимая есть, верная, неизменная, Полуночная Зарница…»
Полуночная Зарница. Звезда любви, Звезда предрассветная.
Лошадь идет подбористо, точно чует мои думы, – видны ее настороженные уши на слабом свете зари… О, красавица, умница, любимая моя! Как передать словами нашу с тобой близость, нашу любовь, – нет тоньше, таинственней и чище этой любви, навеки безмолвной, навеки верной, не обманывающей, любви между человеком и животным!
А этот, теперь уже темный и такой зловещий, лес и она, эта страшная и прекрасная горбунья? Мать, верно, уже спит, а она, живая покойница, сидит на лавке под святыми, глядит, слушает – одна во всем мире, – и все, кроме человека, все с ней и в ней – и ночь, и лес, и вся вселенная, вся тайна ее – и уж так с ней и в ней, как нам никому не дано, потому что уже совсем вне нашего мира она, уже во власти этого Потаенного, Полуночного, чья дивная и грозная Звезда горит перед зарею над лесом…
И я обнимаю и целую сильную атласную шею своей бессловесной возлюбленной, чтобы слышать ее грубый запах, чтобы чувствовать земную плоть, потому что без нее, без этой плоти, мне слишком жутко в этом мире, и натягиваю поводья, и лошадь тотчас же отвечает мне всем своим существом – и легко, горячо несет меня по темной дороге к дому.
Париж. 1921
Преображение
Двор был богатый, семья большая.
Старик, наплодив детей и внуков, в свое время помер, но старуха зажилась и жила так долго, что, казалось, никогда не будет конца ее жалкому и нудному существованию.
Это они со стариком были строителями и владыками всего этого обширного, прочного, теперь уже давно обжитого, вросшего в свое место, грязного и уютного гнезда с его гумном, дуплистыми лозинами, амбарами, черной избой в три связи, грубым до дикости скотным двором, потонувшим в навозе и переполненным сытой скотиной. Это они когда-то были молоды, красивы, разумны и строги, а потом стали как-то теряться среди все увеличивающейся и крепнущей молодежи, то в одном, то в другом уступать ей свою волю и наконец совсем сошли на нет, захирели, высохли, сгорбились, забились на полати, на печь, отчудились сперва от семьи, а потом и друг от друга, чтобы уже навеки разлучиться по могилам.