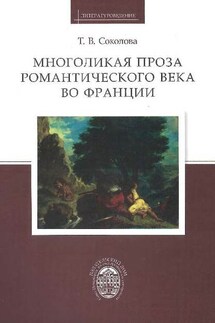Многоликая проза романтического века во Франции - страница 46
Таким образом, рецепция и трактовка идей де Сада у Бодлера, как и у Бореля, отличается от морализаторской, доминировавшей в XIX в., но она еще чужда и позднейшим психоаналитическим концепциям «садизма». Садизм как феномен извращенной сексуальности и объект психиатрии остается вне категорий мышления Бореля. При всем своем «неистовстве», Борель, скорее всего, был еще не готов понять де Сада так, как его восприняли на почве фрейдизма в XX в. К тому же он мог судить о де Саде лишь по «Жюстине» или «Новой Жюстине», но не по книге «Сто двадцать дней Содома», которая была опубликована только в XX в.[85] Сведений о том, была ли ему известна «Философия в будуаре» (1795), не обнаружено.
Вслед за «имморальными» повестями Бореля, которые не дают повода для просветляющих «уроков», «Мадам Потифар» – это продолжение полемики с иллюзиями XVIII в., но теперь уже с акцентом не на вопросах жанра, а на идее детерминированности судьбы: каждому индивиду предназначено или воздаяние (награда за добрые дела и кара за злые), или роль жертвы (что не всегда оказывается справедливым наказанием за какие-либо проступки или преступления, а лишь проявлением слепого Рока). Из этих двух вариантов предопределенности второй привлекает острым драматизмом, и на нем сосредоточено внимание Бореля, хотя его авторская позиция отмечена некоторой двойственностью и на первый взгляд может показаться непоследовательной, но по сути является своего рода риторическим приемом, нацеленным на то, чтобы убедить читателя.
С самого начала и на протяжении почти всего романа события развиваются под знаком декларируемого автором неверия в благую силу Провидения. Жизнь устроена так, что добродетель далеко не всегда торжествует, а порок редко бывает наказан. Более того, иногда самые добрые и честные люди оказываются в руках злодеев и только поэтому обречены страдать. Такова судьба Патрика и Деборы: им не дано поддержки свыше, и вместо ангела-хранителя над ними неотступно витает тень гения зла в двух обличьях – мадам Потифар и маркиза де Вильпастура, которые действуют вполне согласованно; в этом тоже проявляется воля Провидения, но добрая ли воля?
Мадам Потифар движима стремлением задержать ускользающую молодость и власть королевской фаворитки, а также мстительным чувством отвергнутой женщины. Мотивация ее поведения совершенно тривиальна. Что же касается маркиза де Вильпастура, то это образ более сложный, и в нем «родство» Бореля с маркизом де Садом наиболее ощутимо. В Вильпастуре варьируется тип либертена, гедонизм которого не сводим к наслаждению естественными радостями жизни. Чувственные удовольствия увлекают его не сами по себе, а скорее как средство попрания общепринятых понятий о добре и чести, как «погружение в бездну зла», как «опьянение изощренными пороками и бесчестьем» (р. 141). Рассуждения Вильпастура вполне созвучны высказываниям одного из персонажей «Ста двадцати дней Содома»: «…само преступление так притягательно, что, независимо от силы сладострастия, его достаточно, чтобы разжечь любые страсти»[86]. Самое большое наслаждение для Вильпастура – запятнать чистоту, унизить достоинство, осквернить то, что свято. Он и поступает в соответствии со своей «философией», когда приглашает Дебору «радостно» окунуться в бесчестье, пасть в «бездну зла», где ждет наслаждение, «редкостные и проклинаемые удовольствия», доступные лишь для тех, кто дерзнет вступить в эти пугающие пределы и спуститься в эти ужасные пропасти. «Давайте не будем пренебрегать злодеянием; лишь посредственность испытывает отвращение к нему, как к женщине, некрасивой внешне; но, как и в ней, в злодеянии нередко таится красота, чреватая несказанными удовольствиями» (р. 141).