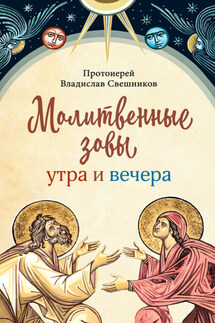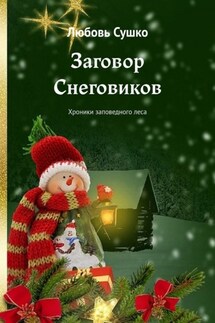Молитвенные зовы утра и вечера - страница 2
Но субъективизм таких ощущений состоит именно в том, что непреложность нужды, психологически обусловленная представлениями о ней человека, на деле чаще всего оказывается иллюзорной. А именно: необходимым ему представляется то, что в реальности является излишним. Особенно это очевидно по отношению к потребительским идеалам, содержанием которых могут быть продукты, предметы быта и т. п. В целом эта кажущаяся нужность находится в области мечтательной. Правда, следует оговориться, что для многих людей, живущих бедно, нужда, и порою довольно острая, есть безусловная и суровая реальность. И лишь глубокая насыщенность жизни духовной перспективой открывает возможность для человека всегда и за все быть благодарным Богу. Такая святая перспектива есть дело нечастое. Поэтому большей частью ощущение нужды, возникающее вначале как простое, мимолетное, разовое пожелание (хотение) – если его не удовлетворить, а с ним жить, – становясь никогда не насыщаемым, обращается в непрекращающуюся прихоть, а в наиболее психологически острых ситуациях – в болезненную похоть. И тогда человек внутренне окружен, как комариными стаями, тучами бессмысленных помыслов (включая скорбные и гневные) – из разряда прихотей и похотей.
Среди всех этих комариных туч ценностных помыслов, которые так занимают сердце и ум и которые в этом неконструктивном брожении часто бывает совсем нетрудно разглядеть и определить, – почти невозможно уловить и сформулировать, в чем состоит негативное влияние вызванных ими психологических ощущений, в основном фрустрационного характера. Но людям, чья жизнь проходит в духовно-нравственном пространстве христианского опыта, едва ли и полезно подробно рассматривать эти психологические брожения.
Следует отметить, что если в человеке не работает (ибо должным образом не сформирована) установка на то, чтобы постоянно удерживать верно направленное внимание ума и сердца, то внимание, хотя и несильно понуждаемое (но все-таки – понуждаемое!), станет держаться близ тех смыслов, в которых оно должно удерживаться, по внутреннему заданию; но если установка совершенно не работает, то и смыслы не удерживаются даже в самой малейшей степени.
Наконец – самое главное. Для того чтобы смыслы (например, молитвы) были услышаны сознанием, необходимо прежде всего, чтобы они были поняты во всей полноте своего вербального объема, а затем приняты и усвоены, то есть сделались как свои для человека, входящего в процесс молитвы. Это доступно не каждому. Для того, кто не вошел в духовно-религиозный процесс внутреннего осмысления жизни – хотя бы в самых первичных, начальных переживаниях, – даже самые простые слова молитв окажутся понятными лишь иллюзорно, возможно, будет оценено их художественное значение, но они не будут осмыслены через призму христианского восприятия как личное обращение к живому Божеству. С самых первых слов молитвенного обращения («Господи, Боже мой») для того, в чьем сознании Бог не стал реально и лично необходимым как Господин бытия в целом и каждого человека в отдельности (здесь можно добавить: «и лично для меня»), – слова молитвы могут оказаться самыми малозначащими, а то и вовсе пустыми звуками.