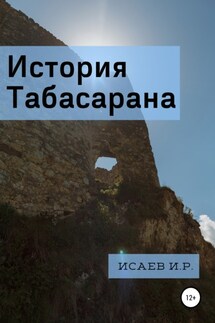«Молодая Россия». Вариации на тему национализма в маршах эпохи - страница 8
Опора на русскую веру, на традиционное православие была характерна для многих россиян, оказавшихся на чужбине. И, конечно, молодежь, подраставшая в православных славянских странах, в Болгарии, в Сербии, находилась в гораздо лучших условиях, нежели, например, в католической Франции. Именно в Сербии возник союз им. преп. Сергия Радонежского с девизом из Достоевского «Неправославный перестает быть русским». Установки этого религиозного кружка весьма близки мыслям Александра Казем-Бека. «Мы настойчиво утверждаем, – отмечалось в программном документе Союза, – что самая главная и вместе с тем конкретная и реальная наша задача – быть православными… наша национальная задача есть в то же время и, прежде всего, религиозная… не ставши православными, мы не можем поднять знамя „России“… Мы не признаем возможности религиозного исцеления, так чтобы одновременно неустроялось наше национальное переживание… Наш Союз собирает в себе людей, готовых отдать свои силы основной, центральной идее русского национального бытия, готовых окончательно и бесповоротно отдать их служению идее: „Россия не может быть неправославной“, „Неправославный перестает быть русским“»>13.
В определенной степени им вторил младоросс Борис Вирановский: «Цементом, спаивающим нашу организацию, является любовь к живому русскому человеку, независимо по ту или по эту сторону рубежа, желание понять его и быть ему понятным, стремление освободить его душу, растлеваемую большевиками, с одной стороны, и отмирающими политическими течениями, с другой. Младоросские ряды спаяны именно этими чувствами: чувствами христианскими по существу, чувствами, которые чужды всем другим политическим организациям и политическим группировкам, ибо все остальные спаяны нехристианскими чувствами ненависти: непредрешенцы – ненавистью к большевикам, „правые“ – ненавистью к революции и Новой России, „левые“ – к контрреволюции и России Старой»>14.
Слова, слова, слова… – те самые фразы, в которых была утоплена монархия – может сказать скептик. Действительно «слов» у младороссов – много: особенно о Родине, которой они гордились. Хватало и романтики, этого злейшего врага мысли.
Сама структура младоросской организации с ее иерархичностью, возрожденной как бы из рыцарских времен, и заповедями, лаконизм которых отнюдь не означал «нищеты духа» – все это не могло не привлекать молодежь, чьи деды ели виноград, а ей оскомина досталась.
В строительстве своего Движения руководство младороссов активно использовало такую древнюю форму организации, как орден, принадлежность к которому давало ощущение избранности, обладания некоей тайной. В сущности, начало двадцатого века с его переделом мира и идеями установления нового порядка было тесно связано с мыслями о возрождении различных орденских структур. Новый Левиафан требовал тайны, которую мог обеспечить только орден. И далеко не случайно, что среди бумаг младороссов имеются выдержки из книги М. Бренстеда «Крах классовой политики». В этом весьма интересном труде автор писал: «Смысл концентричности орденской структуры заключается в том, что в ордене происходит качественный отбор человеческого материала для концентрации силы. В этом отборе, который происходит органически, заключается как бы социальная магия ордена… Качественный отбор человеческих масс происходит путем отбора волевых и моральных сил, путем отсеивания их от элементов слабых духом и от эгоистов всех мастей. Слабые остаются на периферии или выпадают вовсе из круга посвященных. Сильные идут вперед и вглубь, но испытанием силы может быть только борьба, только дела и поступки… орден всегда имеет мировую арену своего действия, в то время как партия действует в пределах государства, на арене национальной. Это вытекает из того, что орден борется за ценности общечеловеческого значения, между тем как социально-экономические интересы, коими руководствуется партия, ограничены рамками государственной жизни. И даже тогда, когда деятельность ордена развертывается в национальных рамках, он стремится вывести нацию на мировую арену, в область большой политики, для осуществления нацией ее исторической миссии, ее исторической идеи, во всечеловечестве… Орден не стремится к количественному росту, он объединяет качество, партия же наоборот ориентируется на т. н. „массы“. Оперируя с качествами, орден воздействует и на самую партию, влияя на ее качественные элементы.