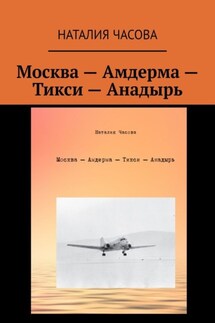Москва – Амдерма – Тикси – Анадырь - страница 5
Я зашла в ярангу последней. Аркаша тут же оказался подле меня. «Ты почему такая неряха?» – спросил он. Я остолбенела: «Что с тобой?» – «Ты вошла в дом и не очистила снег с торбасов. Если обувь намокнет, в чём ты дальше поедешь?» Посмотрев на свои старенькие торбаса, я поняла, что Аркаша прав. Урок запомнила. Меня всегда поражало, как коренные жители умеют отделять главное от второстепенного.
Яранга. Это что-то невероятное! На сотни километров вокруг ни души, только снег да ветер, а мы в тепле, у костра, пьём горячий, необыкновенно вкусный душистый, заготовленный из летних целебных трав чай на снежной воде и чувствуем себя прекрасно среди радушных, гостеприимных хозяев. Можно только поражаться этому гениальному изобретению древних «архитекторов». Здесь всё просто и продумано до мелочей. Деревянные шесты, дары моря, крепко связанные ремнями из шкур морских животных, образуют круг. Каркас накрыт надёжно сшиты-ми оленьими шкурами. Жилище не боится ни ураганов, ни морозов, ни дождей, при этом опытные пастухи могут собрать свой дом буквально за полтора часа. Это важно, особенно зимой.
Чай в яранге
В холодной части, чоттагине, горит костёр, дым от которого уходит в специально оставленное отверстие вверху, а во второй половине – полог, большой мешок из тёплых, мягких шкур, место отдыха. Мы, конечно, уста-ли, переволновались, и так туда захотелось! Вспомнила сказку Ершова «Конёк-Горбунок»: «А Иван наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, забирается на печь». Так и я залезла в полог в кухлянке, не сняв даже меховой шапки с головы. Знала, что вреда не нанесу. Работницы яранги, чаще всего это жёны пастухов, очень тщательно следят за чистотой полога. Шкуры проветривают, просушивают, промораживают. Зато какое это здоровье – сухое естественное тепло оленьего меха! Уехав в тундру не совсем здоровой, я вернулась оттуда как новенькая.
А в чоттагине ещё долго горел костёр, готовили вкусную еду, пили чай, пели чукотские песни, радовались приезду гостей.
Утром, как ни в чём не бывало, светило зимнее солнце. На холодном полу стояли тазики с мясом, ходили собаки, стараясь вроде случайно, хотя бы хвостиком, задеть перед носом лежащую еду. Ни одна из них, как бы голодна она ни была, никогда не стянет ни крохотного кусочка, похоже, потому, что из поколения в поколение каким-то неведомым образом передают они друг другу информацию о том, как неотвратимо грустно может закончиться попытка воровства. Это тоже к вопросу о выживании.
Мы вышли в тундру. Рядом паслось небольшое стадо ездовых оленей. Аркаша взял чаат – длинную верёвку с петлёй на конце. Её нужно набросить на рога оленя и притянуть его к себе.
Ой, как бы посмеялись оленеводы, узнав, что чаат – это верёвка. Не верёвка, а произведение искусства.
Оленевод с чаатом
Его плетут из различных материалов, но самый дорогой и престижный из искусно выделанных эластичных шкур нерпы и лахтака́, так здесь называют тюленя. Назвать чаат «верёвкой», конечно, круто. На самом деле это главное орудие оленеводов. Попробуйте-ка бросить его так, чтобы отловить в стаде нужного оленя. Они же не стоят на месте. Это почище, чем баскетболисту забросить мяч издалека в корзину. Чаат ещё и очень убедительный язык общения с «сильными» тундрового мира. Если рас-крутить его над головой, то встретившийся медведь сразу поймёт: лучше спокойно идти своей дорогой.