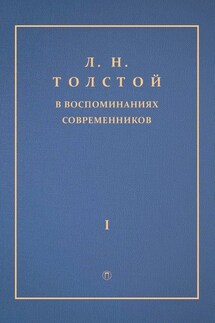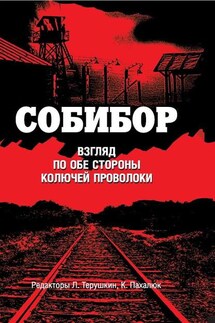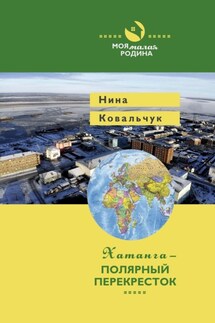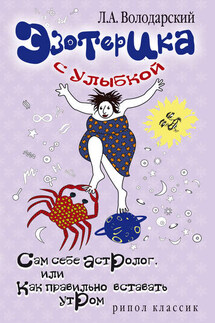Моя революция. События 1917 года глазами русского офицера, художника, студентки, писателя, историка, сельской учительницы, служащего пароходства, революционера - страница 19
Более того, зверское убийство большевиками в июле 1918 г. Николая II и его семьи создало предпосылки для их канонизации. Так, в номере за 31 мая 1922 г. кадетской газеты «Руль», издававшейся в Берлине, со слов эмигранта, тайно посетившего Тамбовскую губернию, сообщалось, что в народе о Николае II «говорят как о мученике»[111]. В сообщениях подобного рода сказывалось изменение отношения к последнему монарху со стороны лидеров кадетов. Один из них, церковный историк вполне либеральных взглядов А.В. Карташев, заметил в октябре 1921 г., что у Николая II «имеются налицо все условия для того, чтобы в будущем быть канонизированным как святому»[112]. Святость венценосцев полностью признавали и более левые деятели, в частности тот же Керенский, отмечавший, что «по пути на Голгофу» царь и царица «обрели в глазах всего света новое величие – духовное величие мученической гибели»[113].
Реалии Советской России окончательно развеяли популярный у дореволюционной интеллигенции миф, согласно которому самодержавие будто бы препятствовало нормальному развитию страны, а потому и подлежало свержению. Понадобилось пережить 1917-й и его последствия, чтобы понять: Романовы, вплоть до Николая II, были сознательными и активными поборниками модернизации и прогресса во всех их основных аспектах – политическом, социальном, экономическом и культурном. П.Б. Струве писал в октябре 1923 г.: «Просто исторически непререкаемо, что в „деяниях“ русской монархии, начиная от Елизаветы, отменившей внутренние таможенные пошлины, через Екатерину, покончившую с частными монополиями, через Александра II, установившего земское самоуправление, создавшего правильное судоустройство и судопроизводство и, казалось, навсегда и с корнем изгнавшего из суда всякую тень взяточничества, что в этих деяниях гораздо больше от здравых и прогрессивных начал Французской революции, чем во всей Русской революции». Выступая в пользу «возврата к оправдавшей себя истории многих столетий и отречения, полного духовного отречения, от опровергшей себя истории одного шестилетия», т. е. периода большевистского господства, Струве подчеркивал: «Я понимаю, что иностранцы, даже самые благожелательные к русскому народу, могут верить в легенду о „царизме“ как злом гении русского народа. Но ни один русский человек, если он знает факты и способен их оценивать, не может уже верить в эту легенду. Русская революция ее окончательно опровергла»