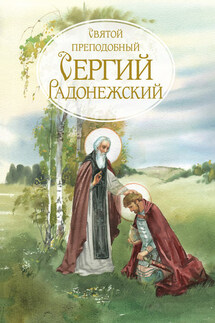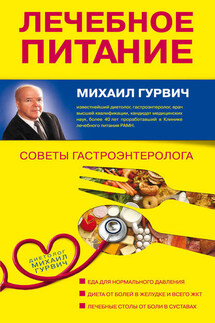Моя революция. События 1917 года глазами русского офицера, художника, студентки, писателя, историка, сельской учительницы, служащего пароходства, революционера - страница 8
Что же делать теперь, спросите Вы. Не знаю, т. е. внутри мы все знаем, что спасение России – в возвращении к монархии, знаем, что все события последних двух месяцев явно доказывают, что народ не способен был принять свободу, что масса населения, не участвующая в митингах и съездах, настроена монархически, что многие и многие, голосующие за республику, делают это из страха. Все это ясно, но признать этого мы не можем. Признание есть крах всего дела, всей нашей жизни, крах всего мировоззрения, которого мы являемся представителями.
Признать не можем, противодействовать не можем, соединиться не можем с теми правыми и подчиниться тем правым, с которыми долго и с таким успехом боролись, тоже не можем. Вот все, что я могу сейчас сказать»[43].
Так откровенно думал проигравший, но победителю – А.Ф. Керенскому – все представлялось пока что гораздо проще. После Апрельского кризиса, получив портфели военного и морского министров, он укрепил свои позиции в первом коалиционном, «буржуазно-социалистическом», Временном правительстве – в него вошли как «министры-капиталисты», так и «министры-социалисты», опиравшиеся на Совет рабочих и солдатских депутатов. В июне, по инициативе Керенского, началось неудачное наступление русской армии, против которого агитировали большевики. В самом начале июля соратники Керенского пошли на уступки Центральной раде в Киеве и согласились на автономизацию Украины, против чего выступили кадеты, а затем последовало июльское выступление большевиков в Петрограде, подавленное военными властями столицы. Все это закончилось образованием второго коалиционного Временного правительства во главе с Керенским. Наконец, в конце августа 1917 г., в связи с неудавшейся попыткой Верховного главнокомандующего генерала Л.Г. Корнилова оторвать Керенского от Совета рабочих и солдатских депутатов и разогнать это учреждение, последовал очередной политический кризис, который закончился взятием на себя Керенским верховного главнокомандования и сохранением за ним председательства в третьем коалиционном Временном правительстве, низложенном 25 октября 1917 г. в ходе Октябрьской революции.
Примат политической целесообразности над функциональной проявился в чудовищной кадровой нестабильности, затронувшей Временное правительство в еще большей степени, чем императорское с его знаменитой «министерской чехардой», поскольку Временное правительство еще 3 марта 1917 г. лишило себя незыблемой опоры сверху в виде монархической власти, и так и не нашло подобной опоры внизу, у Совета рабочих и солдатских депутатов. Если с июля 1914 г. по февраль 1917 г., т. е. за 31 месяц, министрами перебывали 39 человек[44], то с марта по октябрь 1917 г., за 8 месяцев, – 42 человека[45]. Следовательно, при Временном правительстве на высшем уровне исполнительной власти текучесть кадров возросла в 5 раз! «Министерская чехарда последних месяцев царского режима, – констатировал В.Б. Лопухин, – бледнеет перед свистопляскою „министров“ (с позволения сказать) Временного правительства. Проносилась лавина политических акробатов. Сколько их? Куда их гонит? Министром было легче сделаться в эти дни, чем помощником столоначальника. Лезли и пролезали в министры, правда, на самые короткие сроки, из многочисленных и разнообразных питомников „политических деятелей“ того удивительного времени все, кому только было не лень. Временное правительство обратилось в проходной двор, в ярмарку, в огромном большинстве тщеславных, но сугубо немощных бездарностей. Как редки были исключения! Да и они? Если можно было признать за кем относительные таланты, то в какой угодно области, только не государственного управления. Немудрено, что немного сохранилось в памяти имен этих пытавшихся засорить собою историю политических банкротов»