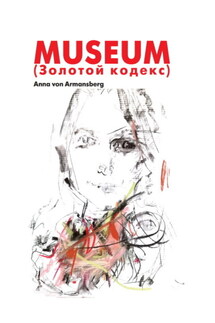MUSEUM (Золотой кодекс) - страница 24
[52].
Личность бердяевского образца являлась живой, постоянно развивающейся частью трансмедиального логико-культурного диалога[53], возникающего через ничем не ограниченный выбор индивидом своего пути.
Художественное пространство Серебряного века действительно представляет собой плодотворный и конструктивный диалог философов, музыкантов, художников, литераторов, и именно на границе различных искусств – некоей метаязыковой границе – возникают универсальные категории, своего рода маркеры художественной культуры Серебряного века: панмузыкальность, синтетичность, теургичность, мистериальность, жизнестроительство (жизнетворчество), в полной мере представленные в теории, зафиксированные в культурном праксисе и во многом определившие специфику рубежной эпохи.
Как представляется, программный тезис о символизме как школе диалога позволяет рассматривать данное художественное явление не только через узкие хронологические рамки, но и как синтез художественных, эстетических и философских тенденций, объединивший различные эпохи, от Античности и Средневековья до начала XX века.
Данный диалог, ведущийся на двух уровнях – уровне культуры веков и уровне искусства и философского знания, являлся следствием многосторонних и насыщенных творческих связей между теоретиками культуры, музыкантами, поэтами, художниками.
В рамках этого диалога возникает особый художественный язык, в контексте постбахтинской традиции получивший статус одного из измерений Серебряного века и объединяющий языки различных видов искусства – музыки, поэзии, живописи и философского знания.
Диссертационная работа по Серебряному веку – который все ж таки существовал, что бы там ни утверждали берлиозы из Сорбонны, – меня действительно увлекла, и профессор Веронези поддерживал меня во всем, спасибо ему! Очень жаль, что никогда уже не смогу сказать профессору лично, как я благодарна за его научную поддержку и сотрудничество.
Мы, его студенты, собирающиеся в шумном лекционном зале или на кафедре, были с ним – заодно, а не друг против друга. И еще, конечно же, его занятия привлекали нас тем, что он учил высказывать свои идеи a) просто, b) ясно и c) лаконично, подобно античным риторам Академии Платона.
Если же на семинаре Веронези возникал диалог в сократическом духе – он также учил нас этому, – то, согласно античному принципу майевтики[54], чередование вопросов и ответов должно было в итоге привести к риторическому согласию, и эти диалоги, оставшиеся и в моей памяти, и в конспектах, я словно бы слышу до сих пор – слово в слово!
Диалог на семинарах Веронези всегда велся на двух уровнях: уровне культуры веков и уровне искусства и философского знания, определяя единство и целостность культурного феномена изучаемой нами эпохи, будь то Средневековье или Возрождение.
Именно благодаря нашему Учителю, Мастеру, нам приоткрылась дверь в удивительный мир истории, мы могли изучать его как некий таинственный палимпсест[55], как драгоценные рукописные пергаментные страницы, с многочисленными правками, с последующими добавлениями и маргиналиями на полях…
Как я уже сказала, профессор был медиевистом, а также большим поклонником философии Джамбаттисты Вико, чьи труды он цитировал нам по-итальянски и затем переводил вышесказанное на немецкий.
К слову, Антонио Веронези, в свое время учившийся, помимо нашего университета, в Оксфорде и Сорбонне, вообще с необычайной легкостью переходил в процессе лекции на другие языки.