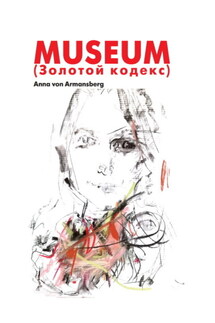MUSEUM (Золотой кодекс) - страница 23
Веронези шел, и нам казалось, что это плывет… величественно, как в замедленной съемке у Феллини или Антониони… да-да, именно проплывает в сотканном июльским зноем облаке римский патриций, а может быть – кто знает! – и сам император Август, в своем белоснежно-пурпурном облачении, милостиво приветствуя толпу верноподданных в Риме.
И была там, в той толпе, пара глаз, следившая за ним с особенным и очень трудно определяемым чувством. Что-то вроде случайно сделанной фотографии, на которой в кадр попал убийца – совсем как у Антониони в Blow-Up![49]
Студенты, однако же, несмотря на весь пафос, окружавший его яркую и столь же таинственную личность, Веронези любили, поскольку на его лекциях и семинарах по истории искусств и медиевистике всегда было захватывающе интересно, шумно и тесно от набежавшего с других факультетов народа.
Он не был, что называется, кэпом или, того хуже, занудой и читал свой курс поистине блестяще!
Мне также довелось посещать его семинары, так что я смогла самолично убедиться в риторическом таланте Антонио Веронези. Некоторые из его лекций можно было скачать на академических ресурсах и YouTube – я даже отправляла ссылки своим друзьям из России и Италии.
Его занятия действительно производили впечатление, особенно на вновь прибывших, и прежде всего тем, как он общался с нами! Открыто, но без всякого панибратства, уважительно и бережно принимая мнение даже самого юного, неопытного, только что поступившего студента! Даже тем, кому история искусств была, что называется, параллельна, становилось интересно на его семинарах…
Темой моей научной работы, которую я писала под руководством Веронези, стал русский Серебряный век.
Писала я и о роли творческой личности в музыкально-синтетическом контексте русской и европейской культуры…
Хронометраж Серебряного века – эпохи немого кино и Веры Холодной, эпохи великих балерин – Анны Павловой и Тамары Карсавиной, эпохи театральных новаций Вс. Мейерхольда и А. Таирова – был столь же непререкаемо и рассудочно размерен, сколь и беспощаден к отдельным его представителям: многие из них были забыты еще при жизни, многие ушли, почти не оставив по себе свидетельств, – подлинно трагедийны судьбы поэтов и философов, вынужденных доживать свой век на чужбине…[50]
Подобным образом ситуацию 1910-х годов, когда претерпевали кризис и требовали значительного переосмысления практически все формы жизни – социальная, экономическая, политическая, философско-религиозная, художественная, описывал поэт Б. Л. Пастернак: «Мы… жили еще во время общего распада основных форм сознания, поколеблены были все полезные навыки и понятия, все виды целесообразного умения»[51].
Но тем отчетливее – в условиях разраставшегося кризиса – осознавались и по-новому осмыслялись взаимоотрицающие идеи и начала жизни, искусства, логики, и тем неотвратимей и неизбежней становилось их взаимное напряжение, усиленное изменениями, отраженными на политической карте мирового пространства.
Все больше деятелей культуры и искусства склонялось к мысли, что единство мира, его целостность и многополярность в значительной степени могут быть обеспечены тем, насколько осознается значимость друг для друга разных систем бытия, придающих смысл друг другу и осознаваемых только во взаимодействии, или диалоге.
На этом фоне все отчетливее осознаваемой необходимости освоить и сопоставить целые комплексы идей различных народов, обществ, эпох именно Личность оказывалась тем необходимым ценностным центром, местом встречи различных пересекающихся смыслов культуры, становилась осью и мерилом всего, поскольку «в личности есть моральный, аксиологический момент, она не может определяться лишь эстетически»