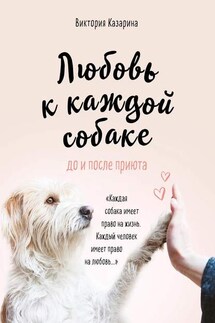Мы, собаки и другие животные: Записки дрессировщика - страница 20
Разберемся. Итак, что такое в данном случае мотивация? Грубо говоря, это возникшее на базе одной из биологических потребностей возбуждение определенных структур головного мозга, которые организуют определенное поведение собаки, направленное на реализацию этой потребности.
Пример: собака хочет есть – она ищет еду, находит и съедает ее. То есть мотивация толкает ее на «подвиги» и организует их свершение.
Что такое подкрепление? По сути, это некий положительный результат (часто промежуточный), который полностью или частично реализует мотивацию. То есть, совершив работу по поданной вами команде «сидеть!», собака после занятия правильного положения получает кусочек пищи – это и есть подкрепление. С точки зрения некоторых исследователей, подкрепление – это то, что делает данное поведение более частым.
В этом тоже есть своя логика. Поясню этот тезис одной, уже ставшей классической, работой (Я.К. Бадридзе. «Пищевое поведение волка: вопросы онтогенеза», 1987).
Замечательный исследователь поведения псовых Я.К. Бадридзе поставил эксперимент, в ходе которого наблюдал, как выпущенные в лес молодые волчата без помощи родителей осваивали навыки охоты. Исследователь выпустил в лес ручных четырехмесячных волчат. Лишь после шестидневных скитаний, питания кизилом и ежевикой волчата поймали свою первую мышь. Замечу, что поначалу они понятия не имели, что делать с пойманной жертвой. Лишь случайно повредив мышке шкуру во время так называемой пробы на зуб, они научились съедать ее. Однако уже на восьмой день все они искусно ловили и ели этих грызунов, а на пятнадцатый день успешно охотились на такую «серьезную» добычу, как кролики, – последние были заботливо выпущены ученым на месте эксперимента.
Главное в дрессировке животных вообще и собак в частности – правильно выбрать мотивацию и найти адекватные (соответствующие) этой мотивации подкрепления.
Тут следует заметить, что хотя поисково-охотничье поведение, так же как и процесс поедания пищи, входит в круг пищедобывательной деятельности, процесс поимки и убийства добычи и непосредственный процесс ее съедения, видимо, определяются разными врожденными «подпрограммами» поведения. Скорее всего, они имеют каждый «свою» генетическую основу – именно поэтому, поймав и убив мышку в первый раз, волчонок не знал, что с ней делать, и, лишь случайно повредив ей шкурку, «включал» врожденную программу поедания добычи. Такое поведение, впрочем, характерно для многих домашних питомцев, которые, удавив курицу, не знают, что с ней делать дальше.
Как работал механизм обучения? Это более чем наглядно показал следующий этап исследований (хотя, справедливости ради, надо сказать, что и предыдущие этапы были не менее наглядны), во время которого ученый изучал охотничье поведение годовалых волчат. Итак, Я.К. Бадридзе выпустил на встречу с молодыми хищниками ослов. Увидев жертву, будущий охотник на всякий случай обходил ее сзади и только после этого нападал, хватая за круп, реже за хвост и ноги, – подобно тому, как это делают африканские львы при охоте на буйволов. В процессе обучения и, соответственно, новых выходов на охоту хищник как бы перебирал варианты успешной остановки и умерщвления жертвы.
Из тактических приемов в основном преобладали атаки на мягкое брюхо звонкоголосой добычи, но убит первый осел был после хватки за горло. Во всех последующих нападениях хищник начинал борьбу с жертвой с того приема, который принес успех в предыдущей попытке.