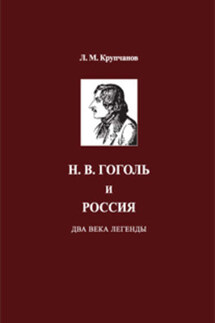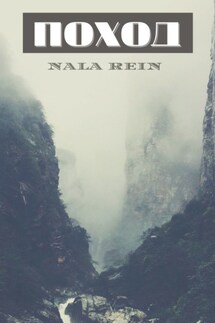Н. В. Гоголь и Россия. Два века легенды - страница 27
О Гоголе пишут Белинский и Герцен, переводят его на иностранные языки. М. Ю. Лермонтов читает ему свою поэму «Мцыри». Он встречается с А. Н. Островским, И. С. Тургеневым, А. Мицкевичем, с братом А. С. Пушкина Л. С. Пушкиным. Плетнев, считая себя продолжателем Пушкина, видел в Гоголе как бы автоматически перешедшего в его распоряжение преданного союзника. Такая позиция Плетнева и других старых товарищей стала раздражать Гоголя.
Ярче всего эти настроения проявились в его письме А. О. Смирновой 28 декабря из Франкфурта. Он пишет, что его «литературные приятели» не поняли смысла происшедшей в нем великой перемены, в результате которой он обратился к совершенствованию «души» своей, чрезвычайно далекой от совершенства. Его друзья проглядели, что он сошелся с «другими людьми», «родственнее» и ближе ему по духу. Старые друзья, занятые каждый своей «идеей» или журналом, видели в нем «прежнего человека» и старались привлечь на свою сторону, хотя он и прежде «не вполне разделял», по его словам, эти идеи. Холодность к их литературным делам Гоголь не отождествляет с холодностью к ним самим. Среди старых приятелей он выделяет Плетнева, который скорее по наивности «затянулся» в литературу. Меняется отношение Гоголя к журналу «Современник». Он пишет о Плетневе: «Ему вообразилось, что он, после смерти Пушкина, должен защищать его могилу изданием «Современника», к которому сам Пушкин и при жизни своей не питал большой привязанности, хотя издавал его собственными руками и хотя я тоже с своей стороны подзадоривал его на это дело. Журнал определенной цели не имел никакой даже и при нем, а теперь и подавно. Плетнев связывает с ним какую-то пространную идею, которую имеет всякий и толкует по-своему, впрочем, и сам он этой идеи в статьях своего «Современника» никому не дал понять. Но тем не менее он считает, что один только идет по прямой дороге, по которой должен идти всякий литератор, и всех, кто не помещает статей в «Современнике», считает людьми, отшатнувшимися и чуть ли не врагами тени Пушкина… Вот почему я избегал с ним всяких речей о подобных предметах, что повергало его в совершенное недоумение, ибо он считал, что я живу и дышу литературой». Конечно, плетневский «Современник» был слабее пушкинского, но все же написанная Гоголем через два года (1846) его статья «О «Современнике»» была излишне резкой. О каких же новых людях, с которыми сблизился Гоголь в эти годы, идет речь в этом письме? Судя по письмам, это славянофильская семья Аксаковых, особенно старший – С. Т. Аксаков, А. О. Смирнова, художник А. А. Иванов, работавший в то время над картиной «Явление Христа народу», Н. М. Языков, ставший другом Гоголя.
Активно общается Гоголь с бывшей своей ученицей М. П. Балабиной. В своих письмах он продолжает поучать ее, особенно в плане литературном. Он одобряет знакомство Балабиной с романом B. C. Миклашевичевой «Село Михайловское, или помещики XVIII века», распространявшемся тогда в рукописи (письмо Гоголя от 30 мая 1839 г.). Этот роман хорошо был известен и Пушкину, поместившему в третьем номере «Современника» свой отзыв на книгу Миклашевичевой. В отзыве он писал: «Недавно одна рукопись под заглавием «Село Михайловское» ходило в обществе по рукам и произвела большое впечатление. Это роман, сочиненный дамой. Говорят, в нем много оригинальности, много чувства, много живых и сильных изображений».