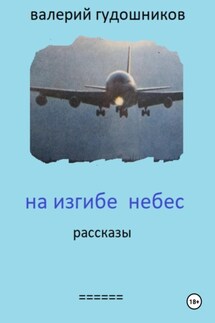На изгибе небес - страница 3
И едва он произнёс эти слова, как пара глотков чистого спирта, словно встряхнув память, воскресила времена голодного нашего детства. Помнится, отруби, перемешанные с мелко изрубленной травой лебедой с добавлением горсти дефицитной тогда муки и зажаренных на каком-то непонятном нутряном сале (так тогда называли отходы ливера), мы называли булками. Как раз лето пятьдесят третьего. Второй год страшная засуха. Летом в какой-то густой траве собирали – их тогда называли пышками – её плоды, размером с пуговицу и ели. Потому, что всегда были голодные.
Засуха тогда была такая, что даже неприхотливые к влаге арбузы не вызрели. И если бы не аэродром рядом, где работали многие жители и где нас – детей и взрослых иногда подкармливали, как могли, солдаты и офицеры базирующейся рядом авиационной дивизии – ещё неизвестно, как сложилась бы жизнь нашего посёлка. Некоторые селения, расположенные в глухих районах, тогда вымирали на четверть. Люди, бросая дома, уезжали искать лучшую долю.
И дядя Вася… Славка Кругликов и его мама тётя Маша… Бабушка там ещё была, но в памяти о ней сохранилось только единственное воспоминание, как она нас гоняла за то, что мы срывали любовно посаженные ей и сорванные нами с клумбы бутоны вкусных каких-то больших цветов, которые мы называли лозориками. Ах, какие они были сладкие! Мы их тоже ели. Но цветы потом, естественно, не распускались. За что нас бабка и гоняла. Больше ничего в памяти не сохранилось. Славка-то должен был помнить больше, ведь на год старше меня. Но где он сейчас и жив ли? Ведь столько лет прошло.
С ума сойти! За окном уже пятый день шумела, нет, ревела пурга, упрятав всё живое в укрытия и занося наши самолёты по самые крылья. А наши экипажи, прихватив пару бутылок разведённого водой спирта, с которым были тут всюду желанными гостями, ушли по натянутым на всякий случай верёвкам, чтобы не заблудиться, к аборигенам, живущим в чумах.
Аборигены, отродясь, домов ни деревянных, ни каменных не знали. То есть знали. Один дом, где располагался продуктовый магазин и где торговали водкой. Этот дом они звали каменный чум. И знали этот чум все жители тундры в радиусе 200 километров. И в любую погоду, каким-то чудом не плутая, могли приехать на оленях за водкой. Романтика! В них – местных чумах – сейчас, занесённых снежным покрывалом, было теплее, чем в нашей захудалой, насквозь продуваемой ветром, гостинице, когда-то строенной ещё сталинскими зеками. И каждый хозяин чума, выпив огненной воды, сидя на полу на звериных шкурах, предавался мечтам. О том, что вот завтра-послезавтра, или через неделю, когда наладится погода, возможно, кто-то из этих лётчиков увезёт одну из его юных, абсолютно неграмотных дочерей, знавших с десяток слов русского языка, в тот далёкий и светлый мир, откуда они периодически прилетают.
Ходили по тундре слухи, что бывали такие случаи. Чудесными были жёнами эти юные аборигенки. И славных детей рожали. И ради этого хозяин готов был подложить под пьяненького гостя свою жену или дочь. Иногда и прокатывало.
А я думал об ином. Что вот здесь, на краю земли, где до Америки всего несколько сотен километров, а до моей родины больше пяти тысяч, встретил человека, который знал отца моего школьного друга Славки дядю Васю. Но не знал он, что нашлась потом у него семья. И дядя Вася, бросив жену и сына Славку, уехал на Донбасс к старой семье. А вскоре, по слухам, там и умер. А мы со Славкой остались безотцовщинами. Впрочем, таких детей в нашем классе было подавляющее большинство. Обо всём этом я и сказал заслуженному штурману СССР Вадиму Семёновичу. На этот раз он не произнёс своё «Вот оно как!», а просто по фронтовому выругался. И спросил: