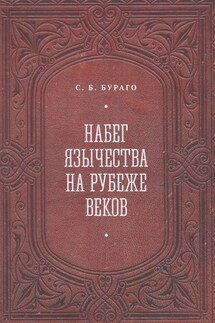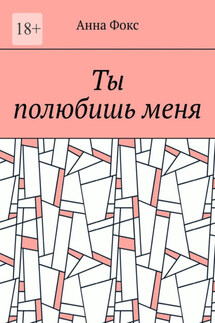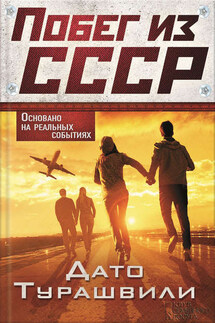Набег язычества на рубеже веков - страница 44
«У Гегеля, – писал Шеллинг в «Истории новейшей философии», – (нельзя отнять заслугу, что он хорошо понял логическую природу той философии, которую он стал разрабатывать», но его панлогизм привел к тому, что природа оказалась лишь «агонией понятия»>37, то есть к абсурду, и случилось это именно потому, что гегелевский идеализм изо всех сил преодолевал принцип непосредственного знания. Именно этому принципу, писал В. Ф. Асмус, «Гегель противопоставил свое твердое убеждение в том, что истина находит адекватное выражение лишь в форме понятия»>38.
Принцип тождества бытия и мышления, провозглашенный Гегелем, неизбежно приводит к сознанию превосходства философии над всеми другими видами человеческого познания; а в самой философии – безусловного превосходства конкретной философии, а именно, гегелевской как абсолютной и предельной истины, завершающей всякий исторический процесс познания. Никакое «непосредственное знание» Шеллинга и никакой «моральный закон» Канта не может мыслиться выше или объективнее этой философии, если даже сама природа и все мироздание склоняется к ее подножию. Но сведение всего мира к собственному его восприятию и осознанию Гегелем вполне ведь согласуется с последним выводом эмпирического скептицизма. Конечное – мышление самого проф. Гегеля – вбирает в себя бесконечное, то есть весь универсум в его развитии, и сводит его (вследствие естественных границ личности проф. Гегеля), по сути, к той же предметности, к которой сводил человека скептицизм, с той лишь разницей, что пустой сосуд скептицизма сменился наполненным бурлящей водой сосудом гегельянства. Если же, напротив, благодаря этому тождеству бытия и мышления личность самого проф. Гегеля становится бесконечной, то его философия и вовсе принципиально ничем не отличается от крайнего скептицизма, то есть солипсизма.
Потому принцип движения в философии Гегеля – лишь предпосылка абсолютного покоя, что явно отразилось и в его знаменитом тезисе: «Все разумное действительно, и все действительное разумно»>39.
«Когда я как-то возмутился положением «все действительное – разумно», – рассказывал Г. Гейне о своей встрече с Гегелем, – он странно усмехнулся и заметил: «Что можно было бы выразить и так: все разумное должно быть действительным»>40. Особенно примечательно это «и так»; перед нами, кажется, сам нравственный релятивизм в действии. Очень точно по поводу последнего в связи с «абсолютной философией» Гегеля высказался В. С. Соловьев: «По Гегелю, история окончательно замыкается на установлении бюргерско-бюрократических порядков i Пруссии Фридриха-Вильгельма III, обеспечивающих содержание философа (а через то реализацию содержания абсолютной философии»)>41.
Но так или иначе, философия Гегеля имела широкий резонанс, во-первых, как развитие диалектической логики философии романтизма (потому, даже отвергая выводы Гегеля, всегда говорили с восторгом о его методе) и, во-вторых, как отрицание самой «органической» теории романтизма. Гегель, который, как казалось, развил шеллинговскую диалектику и привел ее к неизбежному идеалистическому пределу, этим самым вроде бы подытоживал развитие всей немецкой классической философии и расчищал место для сциентистски-эмпирического «позитивного знания», передавая сциентизму свое полное презрение к человеческому чувству как компоненту познания мира.