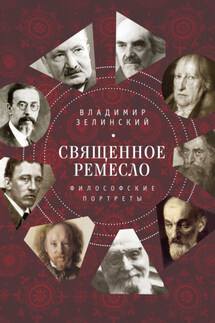Наречение имени - страница 49
Эта способность выработалась в нем не только в силу его широчайшей осведомленности о различного рода культурных событиях и свершениях; разве мало мы слышали о сверхученых функционерах, у которых, казалось бы, сама кровь уже не красного, а книжного цвета, о выжженных пустынях знаний, от которых веет какой-то полынной тоской? Секрет аверинцевской культурной работы в том, что она вырастала из памяти всегда благодарящей, творящей, в чьей глубине живет и таится воспоминание о Христе познаваемом и по-своему созидаемом в других. Христос, вначале неузнанный, словно зашифрованный в чужих открытиях, поисках, мировых загадках, сопровождал его в паломничествах в страну Анамнезиса, чтобы открыть наш ум для уразумения Слова Божия повсюду, куда упало его семя. Аверинцев умел найти и явить в себе разум Слова, разум, который все более светлел в нем с годами, и вот теперь, когда его нет, следуя по следам его памяти, по стопам его сегодняшнего молчания, мы можем слышать непроизнесенные им слова, извлекая их из той общей и неисчерпаемой сокровищницы памяти Христовой, которую он научил нас узнавать в истории и в самих себе.
Это краткое размышление о Сергее Аверинцеве мне хотелось бы завершить словами Павла Евдокимова из его книги «L'amour fou de Dieu» (Безумие любви Божией), где, предчувствуя возможность все новых проявлений царственного священства, он пишет: «Некогда святые князья были канонизированы не за их личную святость, но за их верность харизме царской власти, направленной на служение христианскому народу. Мы входим в эпоху последних проявлений Святого Духа… в которой предчувствуется канонизация ученых, мыслителей или художников, тех, кто отдает свою жизнь и являет верность харизме царского священства, тех, кто творит ради Царства Божия… Ученый, мыслитель, художник, социальный реформатор, – все они могут обрести харизму царственного священства, и каждый из них, как «священник», может превратить свое творчество в священническое дело, в жертву, превращающую любую форму культуры в место Богоявления: воспевать Имя Божие средствами науки, мысли, общественных деяний («братская жертва») или искусства. Культура по-своему присоединяется к литургии, позволяет услышать «литургию космическую», ибо она становится славословием».[39]
3. Разум и писание
«Печаль» и «веселие»
Есть два внутренних побуждения, стимулирующих работу нашей памяти, как бы два удара молоточком, которые легче всего высекают воспоминания, таящиеся под спудом: перенесенная некогда боль (во многих ее разновидностях: стыда, гнева, обиды, занозы в сердце, жала в плоть…) и благодарность. Голос благодарности куда менее слышный, чем стон боли, зато у нее больше оттенков, она богаче вариациями и неисчислимы ее имена. По сути, имена всех тварных вещей могут быть услышаны и переведены нами на язык благодарности. Ибо она всегда несет в себе потаенную весть о Творце, о Котором мы узнаём еще до того, как овладеваем наречием или только азбукой веры. Иногда оба эти вида памяти – та, которая отзывается болью, и та, что откликается благодарностью, – почти сливаются воедино.
Нет ничего страшнее памяти смертной и дивнее памяти Божией, – говорит Добротолюбие, – та вселяет спасительную печаль, а эта исполняет духовным веселием. Ибо пророк Давид поет: Помянух Бога и возвеселихся (Пс 74:6); а Премудрый учит: поминай последняя твоя и во веки не согрешишь»