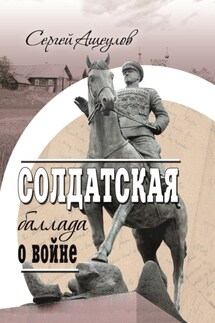Народ на войне - страница 8
Что же, расскажу сказку… Ночью шли лесом, только, как у мерина, селезенка играет – ух да туп, ух да туп. Ни зги не видать, и тихо… Что дальше, встали… Говорят, хорошо бы чайку… Нельзя, увидит. Терплю. Вдруг это меня кто-то за рукав и к сторонке… Я упираюсь, а он тащит, потом к земле пригнул. Я присел, сыро, – пень, что ли, али кочка. А он мне, молчит, и в рот бутылку сует. Я пить смело, а там ром… А выпил, сгинул тот как не было… Подошел я до земляков, а они мне: что это от тебя дух больно хороший?..
Подобрал я его на саше, через ругань какую я его подобрал, сказать трудно! А вез я его в седле 18 верст до дивизии. Так та´к я с им подружился, отдавать дитяти не схотел. И товарищи согласны были: псов так и то видим, а тут душа без призору брошена. Ну, начальство досмотрело: оно чувствам нашим не потатчик…
Пшеница что ни колос – то богу слава. Словно трубы архангельские. А по пшенице солдатики убитые лежат, и наши и ихние. Свежие, еще духу нету, больше полем на тебя тянет. А промеж убитых дети бродят потерянные. Баба как бежать надумала, сейчас она грудного на руку, а малого за руку. Малый отобьется и по хлебам потеряется. Все двухлетки да трехлетки. Красивые ребятки у них… А уж до того напугавшись, что и плакать давно забыли, голос пропал… Словно столбняк у них. Рожа-то в грязи да слезах присохла. А у кого и кровь – побились, что ли… Мыть их да кормить сестры стали. Молчат, ровно куклы какие… Только уж верст через десять отошли, опомнились, что ли, реветь начали… Детям плохо…
Вброд перейти, да сторожко, а то встревожим – перебьет. Полез в реку, как тише стараюсь, а все в темноте-то нет-нет, а щучиной плеснешь. Холодная вода, быстрая, просто несет тебя. Шел-шел, да и ухнул в глыбь, и поплыл в темь. Где берег – не разберу. Через долгое время прибился, вылез – немец на меня. Не туда попал. Поплыл опять. Вылез – немец. Раз пять так-то. Почитай, до свету я утопленником шлялся да немцев смущал. Сколько они патронов схолостили, покуда я к месту своему не прибился.
Я стою – ровно ничего не вижу. Смелее так-то. И он поослаб, ружье тихонько опустил да по опушке и пробирается, будто и не думал про меня. Глаз много силы имеет. Кабы глянул я в те поры на него, быть бы мне на том свете.
Он нам строго приказывал: как увидим бутылку с чем ни на есть, не брать… А уж пить ни боже сохрани… Смотрю – на ходу Осташков зеленую бутылку с земли, оглянулся да в глотку. Голову запрокинул и бутылку Мишке тянет… Мишка взял да ко рту. А Осташков как голову запрокинул, так и свалился на затылок. А Мишка на него брюхом вперед… Я к им, кричу: чего, черти, балуете, нашли время… Подошел, а они аж синие, мертвые…
Я опять до него приступаю: отдай да отдай. Не дает и в глаза смеется: я, мол, сильнее. Не избить, не отнять… Что день – у нас драка, начальство наблюдать стало, особенно меня, что я за им как тень ходил… На что ему кольцо, а мне ровно душу вынули… Целехонькую ночь снится, дни прежние все время в голове. Жить стало невмоготу… Говорю: утеку и муку приму… Утек, поймали и наказали примерно – ни сесть, ни лечь… Тогда отдал…
Ночи тяжелы. Дух у нас густой, спать – морит – хочешь, а нельзя. Разгонишься храпеть, ан бомбу проглядел. Ну, чисто как хрю разнесет… Что человек, что сопля… Бережешься, до того не спишь, что все в тебе ровно притянуто, дрожат все жилы. Так и сдается, что кровь брызнет…