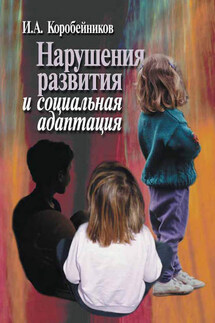Нарушения развития и социальная адаптация - страница 12
В этой связи, по-видимому, появляются основания еще раз вернуться к основополагающим трудам Л. С. Выготского, в которых понимание возраста, возрастной периодизации имеет четкую диалектическую интерпретацию, получившую всеобщее признание в материалистической психологии. В своей работе «Проблема возраста» (1984, т.4, с. 259) он пишет: «Следует признать, что к началу каждого возрастного периода складывается совершенно своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего, социальной. Социальная ситуация развития представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает новые и новые свойства личности, черпая их из действительности, как из основного источника развития, тот путь, по которому социальное развитие становится индивидуальным». Подобное понимание роли возраста является не только наиболее пригодным для установления общих закономерностей развития ребенка, его динамических и функциональных характеристик, но и полностью приемлемым в диагностике индивидуального развития: именно знание специфики отношений между ребенком и средой в конкретный возрастной период способно стать ключом к распознаванию и прогнозированию возможных отклонений в развитии.
В частности, в младенческом возрасте практически всеми исследователями, вне зависимости от их теоретической ориентации, подчеркивается огромная роль полноценного общения (взаимодействия) ребенка со взрослым. Общение в первом полугодии жизни рассматривается отечественными психологами в качестве ведущей деятельности, определяется как ситуативно-личностное и побуждаемое потребностью ребенка в доброжелательном отношении со стороны взрослого (М. И. Лисина, 1974, 1978; С. Ю. Мещерякова, 1976; Е. О. Смирнова, Г. Н. Рошка, 1987; Л. М. Царегородцева, 1989; М. Эйнсуорт и др., 1978; Э. Эриксон, 1963, 1967, 1970; Дж. Боулби, 1960, 1969 и др.). В процессе этой исходной формы общения впервые формируется познавательная деятельность и предметные действия, эмоциональные и когнитивные процессы (М. И. Лисина, 1978; Г. Х. Мазитова, 1977; А. И. Сорокина, 1987; А. А. Катаева, Е. А. Стребелева, 1988). Психологическое значение первого полугодия жизни, по мнению этих и многих других авторов, состоит, прежде всего, в том, что оно как бы инструментально подготавливает следующий этап развития, на котором в качестве ведущей начинает выступать предметно-манипулятивная деятельность, где общение начинает играть обслуживающую роль.
С точки зрения классических канонов упомянутой выше возрастной периодизации, основанной на теоретических взглядах А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, такая схема представляется безупречной, однако недостаточно доказательной, чтобы убедить в реальности подобной метаморфозы. Нет никаких сомнений в том, что примерно со второго полугодия жизни ребенок начинает осваивать предметно-манипулятивную деятельность, это убедительно показано упомянутыми выше авторами. Однако ситуацию можно представить и таким образом, что общение, сохраняя свою доминирующую роль как условия личностного развития ребенка, лишь приобретает иную, усложненную аранжировку, начиная опосредствоваться предметными манипуляциями, которые вводятся тем же самым взрослым. Можно предположить, что ребенок принимает новые условия взаимодействия со взрослым, но еще долгое время сохраняет прежнюю мотивацию, то есть потребность в эмоционально насыщенных контактах и доброжелательном внимании.