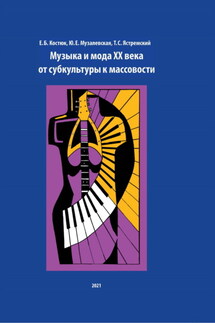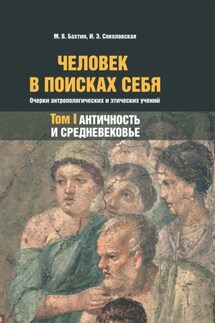Наследие Рима. Том 2. Kрестовые походы - страница 2
Основным условием возможного возникновения религиозных войн в позднесредневековом латинском христианском мире был религиозно-личностный комплекс религиозного учреждения и структурные антагонизмы, которые этот комплекс порождал с другими действующими лицами внутри и вне латинского христианского миропорядка. Точно так же, в то время как короли, принцы и лорды могли в некоторой степени иметь более приземленные интересы, связанные с погоней за богатством, их основные мотивы «взять крест» носили религиозный характер. Язык религии – в том смысле, который имел в виду Квентин Скиннер, когда он придумал фразу «язык политика», которая использовалась для объяснения и оправдания крестового похода со стороны временных акторов, не была ни дымовой завесой для «более глубоких» мотивов (политических или социально-экономических), ни своего рода ложного сознания5. Вместо этого, как скинеровский «дискурс легитимности» ограничивал участников, так и ядро вендской идентичности, которое мотивировало их.
Конечно, Эндрю Лэтэм не первый ученый, который призывает религию привлекать к изучению международных отношений. Как прокомментировали Элизабет Шакман Херд6 и др., область IR слишком долго действовала на основе некоторых очень современных (и в значительной степени неисследованных) светских предположений – предположений, которые в значительной степени ввели в заблуждение по поводу роли религиозных убеждений и идентичности в глобальной политической жизни.
Тем не менее, один из мотивов при написании этой книги заключался в том, чтобы добавить к этой растущей тенденции больше внимания уделить тому, как религиозные убеждения и идентичность являются субъектами на этапе международных отношений. Наш анализ крестовых походов демонстрирует, как отчетливо религиозный «комплекс идентичности-интереса» сделал возможным религиозные войны позднего Средневековья.
Конечно, это очень конкретный исторический случай, и Эндрю Лэтэм постарался представить его как таковой. Но нет никаких оснований полагать, что религиозная идентичность (вместе со всеми вытекающими отсюда последствиями) не мотивирует отдельных и коллективных субъектов на международной арене столь же мощно сегодня, как и тысячелетие назад.
Действительно, как убедительно демонстрируют работы таких ученых, как Оливье Руа7 и Дэвид Кук8, историческое и современное исламистское политическое насилие – в качестве одного особенно яркого примера – становится возможным и мотивируется конкретной религиозной идентичностью и связанным с ней политическим проектом. Как и крестовые походы, это насилие не может быть убедительно объяснено обращением к «скрытой логике» способа производства, трансисторической логике самопомощи при анархии или динамике «второго образа», которые объясняют насилие с точки зрения склонных к войне патологий определенных субъектов на международной арене.
Крестовые походы не были результатом феодальных отношений социальной собственности, властно-политических расчетов или присущей воинственности латинских христиан; и современный глобальный джихад также не является результатом экономической отсталости в исламском мире, «исламофобии» и антимусульманских настроений на Западе или воинственности ислама или мусульман.
В обоих этих случаях источник религиозной войны имеет два аспекта: во-первых религиозный комплекс идентичности-интереса, который конструирует «Самость» как божественно вдохновленный инструмент «реформ» и «справедливости» а «Другой» – в некотором роде по своей сути антагонистичен этому «священному» проекту;